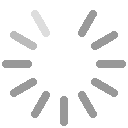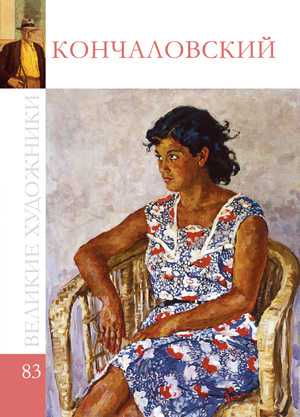|
|
Chargement en cours photo d'archive ...
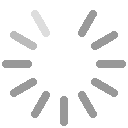 |
|
1876
21 (9) fevrier – ne a Slavyansk dans la famille de Piotr Petrovich Konchalovski (1839-1904) interprete et editeur reconnu, et de Victoria Timofeevna Konchalovskaya, nee Loyko (1841-1912).
Les Konchalovski ayant pris part aux mouvements revolutionnaires des annees 70, Piotr Petrovich a ete arrete et envoye en exil a Kholmogory dans la province de Arkhangelsk. Apres l’exil de P.P.Konchalovski, la propriete failiale a ete confisquee et la famille s’est installee a Kharkov.
1880
Entre au 3eme Lycee de Kharkov et prend des cours de dessein a l’Ecole d’art privee de M.D.Raevsky-Ivanova.
1889
Demenage a Moscou ou il etudie au 1er Lycee et en parallele prend des cours de peinture et de dessein lors des classes du soir donnees par V.D.Sukhov dans l’Ecole Centrale Stroganov des arts appliques.
1891
Commence a etudier la peinture avec de plus en plus de serieux. Grace a l’activite d’editeur de son pere fait la connaissance, entre autres, de V.I.Surikov, I.E.Repin, V.M. et A.M.Vasnetsov, V.A.Serov, M.A.Vrubel, I.I.Levitan, K.A.Korovine.
1896
Sur insistance de son pere entre en faculte des sciences naturelles de l’Universite de Moscou. Cependant, influence par K.A.Korovine, decide de partir a Paris afin d’y etudier la peinture.
1896-1898
Ensemble avec sa s?ur Elena il part a Paris ou il entre a l’Academie R.Julian, ou ses enseignants sont J.P. Laurens et J.J. Benjamin-Constant – les representants de l’ecole dite de Toulouse.
Visite regulierement le Louvre.
Pendant ce temps, V.A.Serov effectuait les demarches necessaires afin d’obtenir un sursis pour l’appel militaire de P.P.Konchalovski, qui, n’ayant pas de diplome universitaire, devait etre appele en tant que simple soldat pour une periode de trois ans.
1898
Automne – entre a l’Ecole d’art superieure aupres de l’Academie des Beaux-Arts de Saint-Petersbourg, ou il recoit l’enseignement de V.E.Savinsky, V.I.Tvorozhnikov et G.R.Zaleman.
1900-1901
Passe dans l’atelier de peinture de batailles de P.O.Kovalevsky.
1901-1902
Sejourne en Italie (Rome).
1902
Fevrier – epouse Olga Vassilievna Surikova (1878—1958), la fille du peintre V.I.Surikov (1848-1916). M.A.Vrubel et V.A.Serov ont assiste au mariage.
Ensemble avec la famille Surikov se rend a Krasnoyarsk en Siberie.
1903
19 (6) janvier – naissance de sa fille Nataliya.
Fevrier – participe a la Xe exposition de peinture de la Societe des peintres de Moscou dans le Musee d’Histoire de Moscou.
1904
28 (15) septembre – deces de son pere.
Fait un voyage en Italie.
1905
3 mars – prend part a la XIIe exposition de peintures de la Societe des peintres de Moscou dans le Musee d’Histoire de Moscou.
Entreprend un voyage dans le Nord a Arkhangelsk, Murmansk, Kandalaksha, ou il peint son oeuvre de concours « Les pecheurs tirant les filets ».
A son retour a Saint-Petersbourg organise l’exposition de ce tableau et des etudes l’accompagnant. Cette annee, il n’expose pas cette peinture au concours.
Se rend a Plyes sur la Volga ou il entreprend de peindre une autre peinture pour le concours – « The dans la pergola ». Ce tableau a ete detruit par le peintre lui-meme.
29 (16) mars – naissance de son fils Mikhail.
1907
Recoit le titre de peintre pour le tableau « Les pecheurs tirant les filets ».
Fait la connaissance de I.I. Mashkov.
Fait un voyage en Allemagne (Berlin).
Decembre – demenage avec sa famille en France (Paris, Arles, Saint-Maxime, Le-Lavandou, Namur). Y reste jusqu’en janvier 1909.
1908
15 avril – 30 juin – participe a la XVIIIe exposition de la Societe Nationale des Beaux-Arts, appelee aussi le Salon des Champs de Mars au Grand Palais a Paris.
1 octobre – 8 novembre – participe a la 6eme exposition du Salon d’Automne au Grand Palais a Paris.
Participe a l’exposition dans la Galerie Weil a Paris.
1909
Janvier – participe a l’exposition de peinture, graphisme, sculpture et architecture, appelee « Salon » et organisee par S.K. Makovsky dans les locaux du musee et dans les appartements de Menshikov du Premier corps des cadets sur l’ile Vassilievsky (quai Universitetsky – « Universitetskaya naberejnaya ») a Saint-Petersbourg.
Fevrier – participe a la VIe exposition de la Nouvelle Societe des artistes a Saint-Petersbourg.
Septembre – rencontre avec A.V. Lentulov.
Novembre – participe a l’exposition de peinture organisee par I.O.Dudin et V.K. Kolenda dans les locaux du Cercle litteraire et artistique sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.
27 decembre 1909 – 31 janvier 1910 – participe a la troisieme exposition de peinture « La Toison d’or » dans la maison de Khludova (ul. Rojhdestvenka, 1) a Moscou.
1910
Part en France avec sa famille.
18 mars – 1 mai – participe a la 26eme exposition du Salon des Artistes Independants a Paris.
Part avec V.I. Surikov en Espagne (Madrid, Toledo, Grenade, Seville, Valence, Barcelone).
Octobre – participe a la VIIIeme exposition du Salon d’Automne au Grand Palais a Paris.
10 decembre 1910 – 16 janvier 1911 – participe a l’exposition « Valet de carreau », organisee par M.F. Larionov dans la maison Levisson (Bolshaya Dmitrovka, 32) a Moscou.
Fin 1910 – fevrier 1911 – participe a la Deuxieme exposition internationale (Salon 2. Exposition internationale des arts), organisee par le sculpteur V.A. Izdebsky (ul. Lonjheronovskaya, 2) a Odessa.
Fin 1910 – occupe l’atelier dans la maison N°10 sur la rue Bolshaya Sadovaya.
1911
13 janvier – participe a la Premiere exposition de la Societe des peintres « Le Salon le Moscou » a Moscou.
Janvier – participe a la XVIIIe exposition de peintures de la Compagnie des peintres de Moscou dans la maison Levisson sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.
26 fevrier – participe a l’exposition « Le Monde de l’art » (« Mir Iskusstva »), organisee dans les locaux du Cercle artistique et litteraire, dans la maison Vostryakov, sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.
3 mars – s’est tenu le bal « Une nuit en Espagne » realise par P.P. Konchaklovsky dans les locaux du Club des marchands.
10 avril – 10 mai – participe a la 2eme exposition de peintures de la Societe des artistes « Union de la jeunesse » dans la maison du prince Baryatinsky, a l’angle des avenues Admiralteysky et Voznessensky (avenue Admiralteysky, 10/2 – « Admiralteysky prospekt ») a Saint-Petersbourg.
Avril – mai – participe a la 27eme exposition du Salon des Artistes Independants a Paris au Quai d’Orsay.
Juillet – participe a l’exposition de l’Union des artistes allies dans le Royal Albert Hall a Londres.
Ete – travaille a Abramtsevo.
1 novembre – Le «Valet de carreau» devient un groupe de peintres avec une charte officiellement etablie (31 octobre). La societe a existe jusqu’en 1917. L’objectif du « Valet de carreau » etait de « repandre les notions modernes sur les questions relatives aux arts plastiques ». P.P. Konchalovski, A.V. Kuprine, I.I. Mashkov et V.V. Rozhdestvensky sont devenus les membres-fondateurs et P.P. Konchalovski a egalement ete elu president de la direction (plus tard il a ete remplace par Kuprin).
3-18 decembre – participe a l’exposition « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») dans l’Ecole de peinture, de sculpture et d’architecture a Moscou.
Traduit en francais le livre de E. Bernard sur Cezanne.
1912
21 janvier – 19 fevrier – participe a l’exposition de peintures « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») transferee de Moscou a Saint-Petersbourg (Nevsky, 45).
23 (ou 25) janvier – 26 fevrier – participe a l’exposition de peintures de la Societe de peintres « Valet de carreau » dans la salle de la Societe economique du district militaire de Moscou (ul. Vozdvizhenka, 9).
12 fevrier – s’est tenu le premier debat public a propos « De l’art moderne » au sein du Musee polytechnique, organise par le « Valet de carreau » dans le but d’expliquer les principes de la peinture russe contemporaine.
14 (1) fevrier – deces de sa mere.
25 fevrier – s’est tenu le deuxieme debat public au sujet « De l’art moderne » sous la presidence de P.P. Konchalovski.
Mars – La famille Konchalovski accompagne V.I. Surikov a Berlin pour qu’il suive un traitement pour les yeux, puis demenage en Italie (Sienne, Pise, Assise, Perouges).
Mars – avril – participe au 28eme Salon des Artistes Independants a Paris (Quai d’Orsay).
Ete – vit a Sienne avec sa famille.
Octobre – participe au Salon d’Automne a Paris.
1913
7 fevrier – 7 mars – participe a l’exposition de peinture de la Societe « Valet de carreau » dans la maison Levisson sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.
24 fevrier – P. Konchalovski preside un debat public dans l’amphitheatre du Musee polytechnique, ou il expose dans un court discours les principes artistiques du « Valet de carreau ».
3 avril – 1 mai – participe a l’exposition de peintures de la Societe de peintres « Valet de carreau » dans la salle de concert aupres de l’eglise suedoise Sainte Catherine (Malaya Konyushennaya, 3) a Saint-Petersbourg.
7 novembre – 7 decembre – participe a l’Exposition internationale des arts sur les nouveaux courants artistiques («Modern Kunst Kring»), organisee par la Societe d’art moderne dans le Stedelijk Museum d’Amsterdam.
Voyage au sud de la France, a Cassis, pres de Marseille.
1914
5 fevrier – 2 (ou 5) mars – participe a une nouvelle exposition du « Valet de carreau » dans les locaux de la Societe des amateurs d’art dans la maison Levisson sur la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.
19 fevrier – le « Valet de carreau » organise dans l’amphitheatre du Musee polytechnique un debat public sur « L’art moderne » preside par P. Konchalovski.
Ete – se rend a Krasnoyarsk avec sa famille. En route, dans l’Oural, apprend le debut de la Premiere Guerre Mondiale. Est mobilise en tant qu’officier artilleur.
6 decembre – debut janvier – participe a l’exposition de peintures et de sculptures « Peintres de Moscou aux victimes de la guerre » dans la maison de Lianozov (Kamergersky pereulok, 3) a Moscou.
Fin de l’annee – participe a l’exposition de peintures « Aux camarades combattants de la part des peintres » (Cour d’affaires, local de I.T. Amirov, Place des barbares) a Moscou.
1915
Se retrouvant sous le feu de l’ennemi il est commotionne et evacue a l’arriere front pour suivre un traitement. Passe deux mois a l’hopital a Nara.
23 mars – 5 (ou 26) avril – participe a l’exposition de peinture « 1915 » dans le Salon d’art (ul. Bolshaya Dmitrovka, 11) a Moscou.
12 avril – 9 mai – participe a « L’exposition de peintures de courants de gauche » dans le Bureau des arts de N.E. Dobychina (Champ de Mars, 7) a Petrograd.
1916
Fevrier – (25) mars – participe a l’exposition de peintures du « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») a Petrograd.
19 (6) mars – deces de V.I. Surikov.
Mars – quitte le « Valet de carreau » et entre dans le groupe « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva »).
3—19 avril – participe a l’Exposition de peinture russe moderne dans le Bureau des Arts de N.E. Dobychina (Champ de Mars, 7) a Petrograd.
Le Conseil de la Galerie Tretyakov achete l’?uvre de Konchalovski – le « Portrait de la fille du peintre N.P. Konchalovskaya » (1915—1916).
10 decembre 1916 – 14 janvier 1917 – participe a l’exposition d’etudes, esquisses, et desseins « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») a Petrograd.
26 decembre 1916 – 2 fevrier 1917 – participe a l’exposition de peintures du groupe « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») dans le Salon des arts de Moscou.
1917
19 fevrier – 26 mars – participe a l’exposition du « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») dans le Bureau des arts de N.E. Dobychina a Petrograd.
14 juin – suite a la demande faite par des peintres moscovites au ministre militaire – est exempte de service militaire.
Collabore avec le Conseil des deputes travaillistes et le Conseil des deputes de soldats.
Juillet – conjointement avec I.I. Mashkov, A.V. Lentulov et N. Shestakov prend la tete de la Commission artistique aupres du Comite de l’Union des femmes « Aide a la partie ».
Fait un voyage en famille en Crimee, a Sudak.
Aout – invite a prendre part au Conseil pour les affaires artistiques de Moscou.
27 decembre 1917 – 2 fevrier 1918 – participe a l’exposition de peintures « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») dans le Salon d’art de la rue Bolshaya Dmitrovka a Moscou.
1918
Apres sa demobilisation vit rue Bolshaya Sadovaya a Moscou, ou se trouvent son atelier et l’appartement.
1 octobre – est elu conjointement avec A.V. Lentulov et P.V. Kuznetsov a la tete de l’atelier de peinture des II Ateliers nationaux d’art libre (GSKHM) – a VKHUTEMAS , ou il donne des cours jusqu’en 1921. S. Bogdanov, P. Vilyame, A. Labas, A. Lebedev-Shuysky, V. Novozhilov, G. Sretensky, A. Taldykin comptaient parmi ses eleves.
Decembre – a ete inclus a la liste des peintres, dont les ?uvres doivent etre achetees pour le Musee de la Culture picturale (MZHK). En 1919 des ?uvres de P. Konchalovski sont transmises par le Fond national du Bureau du musee au MZHK.Il s’agit du « Modele », de la « Nature morte avec un samovar », du « Portrait de famille », du « Paysage », du la « Femme pres du poele ». P. Konchalovski est choisi pour diriger l’atelier de peinture des II Ateliers nationaux d’art libre (GSKHM) – a VKHUTEMAS (Ateliers superieurs d’art et de technique), ou il enseigne jusqu’en 1921. Parmi ses eleves il y avait S. Bogdanov, P. Vilyams.
1919
19 fevrier – participe a la Ve Exposition nationale de peintures (1918—1919) au Musee des Beaux-Arts a Moscou.
Mai – Participe a la Premiere exposition OBMOKHU (Societe de jeunes peintres) dans l’ancienne Ecole Stroganov a Moscou.
Juin – participe a l’Exposition de nouvelles acquisitions (pour l’annee 1918) a la Galerie nationale Treyakov a Moscou.
Septembre – decembre – participe a la I Exposition nationale de tableaux de peintres locaux et moscovites a Vitebsk.
1920
Se fait elire au Conseil des artisans aupres de l’ancien syndicat des ouvriers de l’art, organise pour la defense des interets professionnels des peintres.
17 janvier – elu membre de l’administration du Conseil des artisans. Par la suite le Conseil des artisans a ete reorganise en INKHUK (Institut de la culture artistique).
Ete – travaille a Abramtsevo.
Decembre – participe a l’Exposition de tableaux des peintres russes a Pskov et a la Premiere Exposition nationale d’art et de science a Kazan.
1921
Ete (juin) – ses ?uvres sont presentees a l’Exposition des nouvelles acquisitions a la Galerie Tretyakov.
Travaille a Abramtsevo.
Octobre – novembre – participe a l’exposition d’?uvres picturales, sculpturales et architecturales du groupe « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva »).
1922
Janvier – participe a l’Exposition des ?uvres de peintres du groupe « Monde de l’art » (« Mir Iskusstva ») a Moscou.
Avril – Premiere exposition personnelle a la Galerie nationale Tretyakov.
Octobre – novembre (selon d’autres sources, 15 octobre – fin decembre) – participe a la Premiere exposition d’art russe a la galerie Van Diemen (Unter den Linder, 21) a Berlin.
1923
Janvier – sortie a Moscou aux editions « Tvorchestvo » de la premiere monographie sur le peintre : P.P. Muratov, « La peinture de Konchalovski ».
14 mai – juin – transferees apres avoir ete exposees a Berlin, les ?uvres de Konchalovski sont montrees a la Premiere exposition d’art russe au Stedelijk Museum d’Amsterdam.
Mai – participe a l’exposition commune de peintures a Moscou.
Juin – participe a l’exposition « Art de decoration theatrale de Moscou des annees 1918—1923 » au Musee de la peinture decorative theatrale sur la Bolshaya Dmitrovka.
1924
9 mars – 15 avril – participe a l’exposition d’art russe au Grand Central Palace a New York.
Debut mars – expose ses tableaux lors de l’exposition organisee par l’Association russe de la Croix Rouge dans le Musee d’Histoire de Moscou.
Juin – participe a la XIVe Exposition internationale d’art (Biennale) a Venise, dans la section russe, ou une salle separee a ete allouee a ses ?uvres.
Voyage a travers l’Italie avec sa famille. Fais la connaissance de M. Gorky a Sorrente.
1925
Mars – quitte l’Italie pour demenager en France, a Paris, avec sa famille.
4—19 mars – Deuxieme exposition personnelle a Paris dans la Chambre Syndicale de la Curiosite et des Beaux-Arts. La preface du catalogue est ecrite par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts Anatole de Monzie.
Mars – participe a l’exposition d’?uvres d’art de peintres et de sculpteurs de la Societe des « Peintres de Moscou ».
28 avril – octobre – participe a l’Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes a Paris (Grand Palais, Galerie de l’Esplanade, Pavillon sovietique).
Se rend a Londres.
Apres son retour de la France et de l’Angleterre se rend a Novgorod avec sa famille.
Septembre – participe a l’exposition « Courants de gauche dans la peinture russe des 15 dernieres annees » au Musee de la culture picturale de Moscou.
1926
Mars – Troisieme exposition personnelle de peintures et de desseins a la Galerie nationale Tsvetkov (quai Kropotkin – Kropotkinskaya naberezhnaya, 29) a Moscou.
Recoit le titre honorifique de Maitre emerite des arts de la Republique socialiste federative sovietique de Russie.
Fevrier – participe a la IVe exposition nationale d’art consacree aux tableaux des peintres de la Societe « Etre » (« Bytie ») au Musee d’Histoire de Moscou.
Devient membre de l’Association des peintres de la Russie revolutionnaire (АKHRR).
3 mai – 18 aout – participe a la VIIIe exposition АKHRR « Existence et vie quotidienne des peuples de l’URSS » a Moscou (Exposition agricole, industrielle et artisanale de Russie) et a la VIIIe exposition AKHRR « Existence et vie quotidienne des peuples de l’URSS » a l’Academie des Beaux-Arts de Leningrad.
1926—1929 – enseigne au departement de decoration theatrale de VKHUTEMAS (Ateliers superieurs d’art et de technique) (jusqu’en 1927) – VKHUTEIN (Institut superieur d’art et de technique) et a la faculte des arts pour les ouvriers (rabfak).
1927
Mars – participe a l’exposition des peintres de la Societe « Valet de carreau » a la Galerie nationale Tretyakov a Moscou.
Mars – Quatrieme exposition personnelle au Musee national d’Histoire a Moscou.
Mai – aout – participe a l’exposition d’art russe au Japon, a Tokyo, dans les locaux du journal « Asahi » (15-31 mai), puis a Osaka – Nagoya (juin – aout).
Ete – effectue un voyage en Georgie avec la famille.
Novembre – participe a l’Exposition des nouveaux courants artistiques au Musee national russe a Leningrad.
Automne 1927—1928 – participe a l’Exposition itinerante consacree a l’anniversaire des 10 ans de resultats et d’acquis du pouvoir sovietique, acheminee a travers Berlin – Vienne – Prague – Stockholm – Oslo – Copenhague.
1928
Janvier – participe a l’exposition des ?uvres d’art commemorant les 10 ans de la revolution d’Octobre a Moscou.
Participe a l’organisation de la Societe des peintres de Moscou (OMKH), reunissant les membres des anciennes associations, dont le « Valet de carreau », « Aile », « Makovets » et d’autres jeunes peintres. Membre-fondateur de l’OMKH.
24 fevrier – participe a la Xe exposition de l’Association des peintres de la Russie revolutionnaire (AKHRR) commemorant les 10 ans de l’armee rouge des ouvriers et des paysans (RKKA), organisee dans l’immeuble du Telegraphe, rue Gorky a Moscou.
Fevrier – participe a l’exposition d’?uvres d’art de la Societe des peintres de Moscou (OMKH) a Moscou.
16 avril – Cinquieme exposition personnelle de P.P. Konchalovski dans le Theatre national de chambre a Moscou.
1929
Janvier – Le Conseil des commissaires du peuple assigne a P.P. Konchalovski une pension personnelle a vie, a hauteur de 225 roubles par mois.
Termine son activite d’enseignement a VKHUTEIN (Institut superieur d’art et de technique).
Mars – juin – Sixieme exposition personnelle au Musee national russe a Leningrad.
Participe a l’exposition internationale a Pittsburgh, Etats-Unis (Universite Carnegie).
Fin 1929 – debut 1930 – exposition personnelle en Crimee.
1930
Mars – Septieme exposition personnelle a l’Universite nationale de Moscou.
1931
Ete – habite Barvikha pres de Moscou.
Automne – se rend a Leningrad et a Ryazan.
Hiver – revient a Moscou.
1932
Janvier – Huitieme exposition personnelle dans les salles de la Cooperative des artistes de Russie (VSEKOKHUDOZHNIK) (Kuznetsky most, 11) a Moscou.
Hiver – acquiert une maison de campagne (datcha) a Bugry (partie du domaine de la famille Obninsky « Belkino ») pres de Maloyaroslavets, dans le district de Kaluga.
Fait un voyage a Leningrad pour travailler sur les decors pour le Theatre national academique Bolshoy.
15 novembre 1932 – mai 1933 – participe a l’exposition de commemoration « Peintres de la Republique socialiste federative sovietique de Russie (RSFSR) des 15 dernieres annees », qui s’est tenue dans les salles du Musee national russe.
1933
20 juin 1933 – 12 fevrier 1934 – participe a l’exposition de commemoration « Peintres de la Republique socialiste federative sovietique de Russie (RSFSR) des 15 dernieres annees », qui s’est tenue dans les salles du Musee national d’Histoire a Moscou.
Automne – fait un voyage a Kutaisi.
19З3-1935
Vit et travaille a Bugry.
1936
Ete – se rend en famille a Murmansk, Kirovsk, puis dans le Grand Nord, ou se tenait a Tuloma la construction de l’usine hydroelectrique.
1937
Se rend a Kirovsk et a Apatity.
1938
Voyage a Khokhloma.
30 mars – Neuvieme exposition personnelle dans les salles de VSEKOKHUDOZHNIK (Cooperative des artistes de Russie) (Kuznetsky most, 11) a Moscou.
1939
Se rend au Caucase avec son fils Mikhail.
1940
15 fevrier – s’est tenu le recital de Konchalovski, organise par la redaction du journal « Art sovietique » (« Sovetskoe iskusstvo »).
1941
Mars – Dixieme exposition personnelle a la Compagnie moscovite des peintres a Moscou a l’occasion de l’anniversaire des 65 ans et des 35 ans de carriere artistique du peintre.
Au commencement de la Deuxieme Guerre Mondiale le peintre reste avec sa famille a Moscou et vit dans la maison rue Konyushkovskaya.
1942
A recu de Prix Staline de Ie degre « Pour la longue activite creatrice ».
1944
Novembre 1944 – mars 1945 – Onzieme exposition personnelle au Theatre national Maly a Moscou.
1945
Avril – Douzieme exposition personnelle dans la Maison centrale des ouvriers de l’art a Moscou.
1946
A l’occasion de l’anniversaire de ses 70 ans et des 40 ans de sa carriere artistique recoit le titre honorifique de « Peintre populaire de RSFSR » et est decore de l’Ordre de la Banniere Rouge du Travail.
Avril – Treizieme exposition personnelle au Musee de la contree a Krasnoyarsk.
1947
Est elu membre actif de l’Academie des Beaux-Arts de l’URSS.
Fevrier – Quatorzieme exposition personnelle organisee a l’occasion des 40 ans de sa carriere artistique de peintre par la Compagnie moscovite des peintres a Moscou. La preface du catalogue de l’exposition est redigee par K.S. Kravchenko : « Piotr Petrovich Konchalovski. Cinquante ans de creativite ».
1949
6 novembre – participe a l’exposition d’art de l’Union sovietique, organisee dans les salles de la Galerie nationale Tretyakov.
La veille du 2 novembre une serie d’?uvres de P.P. Konchalovski, de A.T. Matveev et de S.V. Gerassimov a ete retiree de l’exposition.
1951
Mars – Quinzieme exposition personnelle dans les salles de l’Academie des Beaux-Arts de l’URSS (ul. Kropotkinskaya, 21). La preface du catalogue est ecrite par Vsevolod Ivanov.
1956
2 fevrier – decede. Est inhume au cimetiere Novodevichy a Moscou.
Seizieme exposition personnelle a Moscou et dix-septieme exposition personnelle a Leningrad. Les expositions etaient accompagnees du catalogue dont la preface etait redigee par N. Sokolova « A la memoire de Piotr Petrovich Konchalovski (1876—1956)». |
|
Sorry. There are no translations available.
В 1880 году Петр Кончаловский поступает в Харьковскую частную школу Раевской, где учится рисунку. Тогда же знакомится с художником Левченко, бывает у него в мастерской и пытается работать красками.
После переезда в Москву в 1889 году, продолжает занятия живописью и рисунком в вечерних классах у В.Д.Сухова в Центральном Строгановском училище технического рисования. Пишет ряд портретов, в том числе портрет сестры Виктории Петровны Кончаловской, который отец показывает Сурикову и тот отмечает “испанский” колорит молодого художника.
Благодаря издательской деятельности отца, молодой художник знакомится с художниками В.И.Суриковым, В.А.Серовым, М.А.Врубелем, К.А.Коровиным и другими. Часто посещает мастерскую В.А.Серова и К.А.Коровина. Живопись второго особенно сильно влияет на молодого Кончаловского.
Пробует самостоятельно иллюстрировать пушкинского “Скупого рыцаря”.
Часто посещает музеи, большое впечатление произвела Третьяковская галерея.
В 1895 году в Москве, открывается французская художественно-промышленная выставка, на которой художник впервые видит работы импрессионистов. Сильное впечатление производят “Стога” Моне.
Пробует силы в скульптуре. В 1896 г. по Врубелевским моделям, широкими планами вылепил из глины группы “Роберта и Бертрама” для лестницы Морозовского особняка на Спиридоновке ( закончены потом Врубелем для отливки из бронзы).
В 1896 году по совету К.А.Коровина едет учиться живописи в Париж. Поступает в Академию Р.Жюльена — частную художественную студию, где преподавателями были представители так называемой тулузской школы, Ж.-П.Лоранс и Ж.-Ж.Бенжамен-Констан. Рисунок молодого художника отмечен наградой и вывешен как образец на стене Мастерской. В Париже пишет этюд на мифологический сюжет “Одиссей и Калипсо”, отмеченный преподавателем, однако не удовлетворивший самого автора. Также пишет “Женский портрет” (1898г.).
Художник понимает необходимость работы с натуры и изучения природы и едет в Бретань, где пишет серию (около сотни) этюдов на деревянных дощечках размером с открытку.
В 1898 году возвращается в Россию. Осенью едет в гости к знакомым в Тверскую губернию и работает в мастерской Венецианова. Пишет этюды русской осени.
Поступает в Высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге, где учится у В.Е.Савинского, В.И.Творожникова и Г.Р.Залемана. Через некоторое время переходит в мастерскую батальной живописи П.О.Ковалевского.
Тем временем, П.П.Кончаловский-старший начинает издание Собрания сочинений А.С.Пушкина, к которому привлек многих художников, участвовавших в работе над изданием сочинений Лермонтова. В издании 1899 года принимает участие П.П.Кончаловский-младший (Сочинения А.С.Пушкина. Юбилейное издание П.Кончаловского в 3 т. Москва: Товарищество типографии А.И.Мамонтова, 1899).
1901-1902 год – часто ездит на этюды в Рождественно под Петербургом.
Учась в Академии, художник занимается оформлением студенческих и любительских постановок. Получает первую премию за эскизы оформления академического бала; кроме оформления зала делает декорацию для живой картины “Фрина в Элевзисе”. Также исполняет декорацию парижской улицы для пьесы в театре Яворской и декорации к “Снегурочке” по эскизам В.М.Васнецова для “крестьянского” театра В.С. Серовой.
После женитьбы на Ольге Васильевне Суриковой (февраль 1902 года), едет вместе с семьей Суриковых в Сибирь, в Красноярск, где пишет этюды. Серия этюдов отмечена преподавателями и выставлена на академической выставке. Самого же художника собственные работы не удовлетворяют, и многое из написанного в эти годы он самолично уничтожает.

Сибирь. Тайга. 1902
В 1904 году едет в Италию, где пишет первый этюд в импрессионистической манере (“Садик под Римом. Персики в цвету”). По возвращении в Петербург продолжает работать в академической традиции.
Продолжает работу над начатым в Риме портретом жены.

Садик под Римом. Персики в цвету. 1904
Исполняет ряд академических работ на свободно выбранные темы: “Парни, идущие на беседу” получили премию, а “Масляничное гулянье” так понравилось Ковалевскому, что он уговаривал молодого художника писать на этот сюжет конкурсную картину.
Много времени проводит в ботаническом саду наблюдая и зарисовывая зверей.
В 1905 году совершает поездку на Север. В Кандалакше, прямо на берегу пишет конкурсную картину “Рыбаки тянут сети” (смыта автором в 1935 году) и по возвращении в Петербург устраивает выставку одной картины и этюдов к ней. Однако, решает в этом году на конкурс картину не выставлять. (В 1907 году П.П.Кончаловский получит за это полотно звание художника).
Летом 1905 года едет в Плёс, где пишет еще одну картину на конкурс — “Чай в беседке”. Картина уничтожена самим художником.
Тем же летом работает для Оперного театра С.И.Зимина. Пишет занавес и эскизы декораций к операм Э.Мисса “Мюгетт” и А.Брюно “Ураган”. Несмотря на то, что декорации выполнены в необычайной еще для того времени широкой живописной манере, приходившие смотреть их профессионалы-декораторы остаются довольны, и приглашают Кончаловского вступить в товарищество по изготовлению декораций для провинциальных театров.
|
|
1907-1909 “Импрессионизм” |
 |
 |
 |
|
Sorry. There are no translations available.
С 1907 года П.П.Кончаловский начинает отсчет своей художественная деятельности.
Художника все больше интересует живопись импрессионистов и после окончания учебы, летом 1907 года, живя под Москвой, пишет ряд этюдов в импрессионистической манере.

Дом в Белкине. 1907

Белкино. Садик. 1907
Осенью 1907 года едет в Германию (Берлин), в декабре переезжает с семьей во Францию (Париж, Арль, Сан-Максим, Ле-Лаванду, Немур), где остается до января 1909 года.

Франция. Гора Лаванду. 1908

Париж. Мальчик с яблоком. 1908
В Париже часто бывает в Лувре и интересуется искусством прерафаэлитов.
Художника поражает живопись Сезанна и Ван Гога.
“Они, мне кажется, не противоречат друг другу, их творчество стремится по одному руслу, они близки пред лицом природы, потому что оба они — потомки и продолжатели великого Монэ. В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 г., писанные в Сен-Максиме, там наверное найдутся, рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами, и “куски” от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их. Вы можете найти влияние обоих этих мастеров, например, у Матисса: декоративные элементы идут от Ван-Гога, а обобщения, синтез — от Сезанна. Впрочем, влияние Ван-Гога и у Пикассо найти можно, и у Дерена, и у многих французских художников. Метод понимания природы был мне дорог у Сезанна. Я долго следовал ему и потом, в более зрелые годы, потому что именно сезанновские методы давали возможность по-новому видеть природу, которой я всегда хочу быть верным… Это просто ужасно, что современная художественная молодежь очень часто работает без всякого художественного метода. В искусстве нельзя так себе, просто бросать человека в воду: выплывет— художник будет, а утонет— туда и дорога. Я и в те годы инстинктивно почуял, что без каких-то новых методов нет спасенья, нельзя найти дорогу к настоящему искусству. Оттого и ухватился за Сезанна, как утопающий за соломинку”. Цит. по В.А.Никольский, Петр Петрович Кончаловский, М.,1936. С.38.

Версаль. Плющи. 1908

Садовник. 1908
Под влиянием живописи Ван Гога пишет сады Версаля и французского юга. Желая лучше узнать его творчество едет на неделю в Арль. Там пишет ряд пейзажей и картину “Арлезианка”.

Арлезианка. 1908
А.А.Федоров-Давыдов в статье “Природа стиля” (1929) так характеризовал живописные работы Кончаловского этого периода: “Процесс превращения дополнительных тонов во взаимодействующие цвета можно проследить и в эволюции молодого П.П.Кончаловского, в эту эпоху типичного “неопримитивиста”. Более непосредственно связанный с французской живописью, он проходил этот путь проще и нагляднее, не имея дела в своей “импрессионистической” стадии с пресловутой “дымкой”.

Немур. 1908
Его “Немур. Франция” (1907-1908) — образчик импрессионистического “оптического смешения” тонов. Небо образуют мазки всех оттенков синего, розового, лилового, участвующего и в передаче стволов деревьев, их листва составляется из массы тонов зеленого И желтого, стены домов — из желтого, розового, красного, синего, лилового, бледно-зеленого и др. Но уже В “Пальмах” (1907) цвет уплотняется, дополнительные тона образуют самостоятельные соседствующие в передаче зелени, а в цветах на грядах — контрастирующие красное и зеленое; между ними куски незаписанного холста также играют цветовую роль; но почва еще дается тональностями розово-желто-коричневого”. Федоров-Давыдов, 1975. С. 165

Сан-Максим пальмы. 1908
В 1909 году П.П.Кончаловский возвращается в Москву.
Исполняет плафон для гостиной в доме иваново-вознесенского купца Маркушева. Позже получает дополнительный заказ на четыре панно для столовой: “Сбор винограда”, “Сбор оливок”, “Жатва”, “Посадка герани”.
Лето проводит в Абрамцеве, пишет пейзажи, портреты, натюрморты – цветы и фрукты. Продолжает работать в импрессионистической манере.

Ирисы. 1909

Сбор винограда. 1909
|
|
1910-1916 “Бубновый Валет” |
 |
 |
 |
|
Sorry. There are no translations available.
В 1910 году снова едет во Францию. Много общается с В.И. Суриковым и учится у него “мастерству живописного видения”.

Автопортрет. 1910
Продолжается увлечение французским импрессионизмом.
Из Парижа едет с В.И.Суриковым в Испанию (Мадрид, Толедо, Гренада, Севилья, Валенсия, Барселона). Знакомится с искусством Веласкеса.
Из Испании возвращается в Арль, затем снимает с семьей виллу в Кальдетасе, где по многочисленным зарисовкам и наброскам, сделанным в Испании пишет картину “Бой быков”.

Бой быков. 1910
Художника интересует также народное испанское искусство, и в работе “Бой быков” он стремиться сделать быка похожим на народную игрушку, на примитив, что б придать образу характерности.
“Первоначально я написал “Бой быков” совсем реально, Суриков считал эту вещь замечательной по жизненности передачи, а мне не нравилась она. Хотелось сделать быка характернее, не таким, каким его все видят, а похожим на примитив, на игрушку. Я всегда любил народное искусство. Помните этих Троицких игрушечников, которые всю свою жизнь резали из дерева какого-нибудь медведя с мужиком. С какой простотой и силой передавали они самое существо зверя и человека, пуская в дело элементарнейшие средства, все сводя к двум-трем характернейшим деталям. Вот так именно, “по-мужицки”, “по-игрушечному” и хотелось мне дать быка во время боя. Хотелось, что бы он казался не то игрушкой, не то самим “дьяволом”, как изображали его в средние века в церковных притворах. Таким я и переписал его. Суриков, помню, считал, что я ошибся и все жалел прежнего быка, а мне новый нравился больше”. Цит. по В.А. Никольский ук. соч., С.46-47.
Испанская живопись изменяет палитру П.П.Кончаловского. Колорит теплеет, оттенки становятся сумрачными. Художник стремиться достичь испанского “упрощенного синтетического цвета”.
Пишет картины: “Дом”, “Любитель боя быков”, “Испанская комната” и “Матадор Мануэль Гарта”.
В этом же году возвращается в Москву и становится одним из основателей художественного общества “Бубновый валет”.
Главным достоинством живописи провозглашается ее качество. Художниками общества осознается необходимость “работать по новому и вполне определенному методу”.
Одна из центральных работ написанных Кончаловским после возвращения из Испании становится ” Портрет художника Георгия Богдановича Якулова”.

Портрет художника Г.Б. Якулова. 1910
Сам художник характеризует его так: “Портрет Якулова я писал в каком-то победном настроении, таким крепким чувствовал себя в живописи после Испании. Совершенно искренне, в самой неприкрытой форме хотел я в этом портрете противопоставить излюбленной многими художниками миловидности, причесанности и прилизанности портрета то, что считалось по общему мнению безобразным, а на самом деле было чрезвычайно красивым. Показать хотелось красоту и живописную мощь этого мнимого безобразия, показать самый характер Якулова. Об этом портрете услыхал от кого-то Бенуа, приехал в мастерскую и уговорил показать портрет на ближайшей выставке “Мира искусства” прежде, чем он будет выставлен в “Бубновом валете”". Кончаловский, 796-4. С 23.
1911 год художник проводит в Москве, летом выезжая в Абрамцево, где так же в испанской гамме пишет серию пейзажей. Тогда же начинает интересоваться русским народным искусством, уличными вывесками, вводит их в свои городские пейзажи.

Ирисы. 1911

Чайная в Хотьково. 1911
“Корни интереса к народному искусству и вывеске лежали у Кончаловского, как и у некоторых других художников эпохи, в охватившем их стремлении выявлять в живописи одно лишь характерное, пользуясь наипростейшими средствами. Свойственная народному искусству и вообще примитиву обобщенность форм при чрезвычайной скупости художественного языка была, по существу, подтверждением сезанновского учения о синтезе формы, как раз и совершавшего в то время свое триумфальное шествие в живописи многих стран и народов”. Никольский. Ук. соч., С.51
Пишет первый семейный портрет – групповой портрет жены и детей художника (“Семейный портрет”, 1911). Эта картина так же относится к испанской серии работ художника.

Семейный портрет. 1911
“В нем, по-испански, доминируют два цвета: черный и белый. Как ни сильно даны в портрете красный и зеленый, они играют строго подчиненную роль, их дело только подчеркивать звучность двух основных нот портрета. Введенная в фон китайская картина служит аккомпанементом этим основным тонам. В ней снова дано черное, серое и повторные поты для красного — розовые жабры рыбы и зеленого — голубовато-зеленая волна. В этом портрете, если вглядеться, окажется уже некоторое ощущение вещности предметов и начатки конструктивизма”. Никольский. Ук. соч. С.53
Параллельно увлечению испанской живописью сохраняется интерес художника к творчеству Поля Сезанна. В 1912 году издается книга Э.Бернара “Сезанн, его неизданные письма и воспоминания о нем” в переводе П.П.Кончаловского.

Натюрморт. Поднос и зеленая картонка. 1912
В марте семья Кончаловских сопровождает В.И.Сурикова в Берлин, затем переезжает в Италию (Сиену, Пизу, Ассизу, Перруджу).
В Сиене художник изучает фрески Синьорелли, Симоне Мартине, Беноццо Гоццоли, Пьеро Поллайоло. У старых мастеров он учится строению композиции, уплощению формы.
К значительным произведениям этого периода также относится “Семейный портрет”.

Семейный портрет. 1912
Портрет характеризует в первую очередь пространственное строение композици, стремление к “фресковому” стилю. “Именно в Сиене я обратил почему-то внимание на то, что живые люди садятся иной раз в итальянской комнате так, будто они позируют дня фрески. Сама жизнь подсказала мне дня сиенского портрета это фресковое, круговое построение. Круглоту композиции, ее пространственность особенно четко показывала здесь дверь с лестницей за спиной жены, в самой высокой точке полукружия. Сиена и дала мне ту монументальность в композиции, которая есть в этом портрете. В цветовом его решении я держался примитивных упрощенных тонов. В фресках тоже все страшно упрощено, хотя изображенное на них нередко и кажется совершенно живым. Помню, как обрадовало меня маленькое “открытие” у сиенского портрета: как-то раз около стоявшего на полу, у стены холста случайно поставили стул, и оказалось, что он просто врастает в картину, сливается с ней вопреки всей упрощенности ее форм.
Пробовали ставить у портрета другие вещи — все то же, врастали в холст и они. Так открылся мне “секрет” реальной живописи, противоположной по своим качествам натуралистической иллюзорности. Этот “секрет” давал какую-то новую дерзость и силу, открывал новые качества живописи, совсем далекие от импрессионизма…”. Цит. по Никольский. Ук. соч., С. 56-57
Также в Сиене и окрестностях пишет серию городских пейзажей и натюрмортов, внимательно изучая строение природных форм.

Под Сиеной. 1912
В сиенских работах художника можно проследить явное влияние Сезанна и живописи кубистов.
Так же по примеру кубистов, по возвращении в Москву, художник пишет ряд натюрмортов, вводя в композицию бумажные наклейки.
Наклейка, введенная в живописное произведение, по мнению мастера, заставляет художника повышать качество живописи, доводя ее до реалистичности, добиваться “осязаемой передачи вещности предметов, отнюдь не впадая в натуралистические крайности”. Никольский. Ук. соч. С.57.

Натюрморт. Пиво и вобла. 1912
Параллельно стремлению передать “вещность” предмета и попыткам разложения цвета на плоскости, Кончаловский изучает конструктивный метод построения предметов – кубизм.
Работы, написанные в этой манере: автопортреты 1912 года и “Натурщица”.
Метод кубизма помогает художнику научиться извлекать из природы наиболее характерное, учит построению композиции.
“Это мне нужно было”, — объясняет художник, — “чтобы окончательно овладеть искусством извлекать из природы одно характерное, существенное, чтобы научиться строить композицию, окончательно разделаться с традициями живописного натурализма, которые теснили меня со всех сторон, которыми жила и дышала еще громадная часть русской живописи…”. Никольский, Ук. соч., С. 58.
В 1912 году Кончаловский выполняет эскизы декораций и костюмов к опере А.Г.Рубинштейна “Купец Калашников” для Оперного театра С.И.Зимина. Декорации не сохранились (погибли во время пожара).
Ранее создал эскизы занавеса “Гамлет, Пьеро и маг” для театра миниатюр М.А.Арцыбушевой.
В 1913 году совершает поездку на юг Франции, в город Кассис, близ Марселя, где создает около десяти картин: виды порта, морские берега, скалы и горы.

Кассис. Корабли. 1913

Кассис. Скалы. 1913
По-прежнему продолжает работать используя приемы кубизма.
Летом 1914 года едет с семьей в Красноярск. По пути, на Урале, его застает известие о начале войны, и Кончаловский мобилизован как офицер-артиллерист.
На войне пишет несколько акварелей как памятки товарищам по службе. Так же во время двух месячного пребывания в Москве в 1915 году пишет портрет “Наташа в кресле”.
Во время приезда в Москву в следующем году пишет картину “Скрипка”.
Работа написана в нетипичной для художника тщательной суховатой манере и может считаться сигналом о наступлении нового периода. Также и в натюрмортах, написанных в 1916 году наблюдается поворот к реализму. В “Агаве” — очевидно внимание художника к самой поверхности холста, к “сделанности” его живописи, к проработке живописной фактуры.

Агава. 1916
“Мне определенно хотелось тогда выхолить поверхность холста. Значение фактуры в живописи было, конечно, ясно для меня и раньше. Я всегда любовался, например, фактурой Ренуара, а фактура Тициана специально изучалась даже, но самые-то задачи фактурного порядка еще не ставились на очередь, потому что были иные, более насущные задачи. Забота о фактуре может возникать у художника только тогда, когда живописная его манера созрела уже, а это произошло у меня только к 1916 г. Я особенно заботливо подготовлял холст для “Агавы”, а в живописи стремился, чтобы сама фактура передавала внешние свойства предметов: матовость бумажного листа, до упругости налитые соком листья агавы, маслянистость полированного дерева. Здесь и техника письма была у меня необычайной: писал по полусухому, прибегал к лессировкам, употреблял много лака. Но уже после “Агавы” я почти не мог отделаться от вопросов фактуры, что бы ни писал, — забота о поверхности стала одной из составных частей моей манеры”. Никольский . Ук. соч., С.63-64.
|
|
Sorry. There are no translations available.
В 1917 году Кончаловский получает освобождение от военной службы и возвращается в Москву. Много работает. Пишет натюрморты, портреты, пейзажи.
“В этом году появился натюрморт “Верстак”, документирующий постоянное стремление Кончаловского к “самообслуживанию” в области искусства. Он сам делает подрамники, переделывает рамы, грунтует холсты, перетирает краски. Грузная краскотерочная машина — такой же необходимый атрибут его мастерской, как мольберт… Соскучившись за годы войны по живописи, Кончаловский выразил в этом “Верстаке” всю силу своей любви к орудиям производства живописца”. Никольский, Ук. соч., С. 66.
По собственному признанию, к концу военной службы художник почувствовал необходимость поиска новых путей в живописи. Вместе с семьей он едет в Крым, Судак, где пробует писать в новой для себя манере.

Судак. Тутовое дерево. 1917
Наиболее характерные работы этого периода: “Натурщица у печки”, написанная широко и обобщенно. А так же, “В мастерской. Семейный портрет”.

Семейный портрет. 1917
“И в этом портрете, в фигуре дочери, я именно хотел спорить с самою жизнью. Другое дело — насколько мне удалось, но я хотел именно этого. Когда писал в портрете косу у дочери, чувствовал себя так, будто заплетаю косу живому существу и наслаждался этим чувством. Наслаждался сознанием, что при помощи краски орехового цвета можно сплести в конце концов совсем живую косу, сплести ее так, что в косе будет ощутимо чувствоваться живой волос живого человека… “. Цит. по Никольский. Ук. соч., С. 67
Живопись становится не только пространственной, но и воздушной.
1918 год проводит в Москве.
Именно теперь определяются изменения, произошедшие в живописи художника. Очевидно изменяется отношение к цвету и свету, атмосфера картин становится воздушной. Начинается эпоха “завоевания цвета и воздуха”.
качестве примера пейзажей, отражающих произошедшие перемены, можно привести работы: “Станция Нара”, “Река”, “Мост в Наре”.

Мост в Наре. Ветер. 1918
Формы все еще лаконичны и упрощены, однако, статике архитектурных форм теперь противопоставляется движение воздуха. “Ветер рвет бегущие по небу облака, зверски раскачивает фонарь на мосту, готов сбросить в реку идущую по мосту женщину. Застылость тяжело громоздящейся ввысь фабричной трубы лишь подчеркивает и усиливает общую динамичность пейзажа”. Никольский. Ук. соч., С.69
В этом же 1918 году Кончаловский пишет картину “Скрипач”, первый в его творчестве портрет, где человеческая фигура не статична, однако находится в движении.

Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова. 1918
Сам художник признает, что портрет оказался поворотным в его живописи, и если до этого его притягивала именно “вещность” природы, то теперь его задачей было передать одухотворенное состояние музыканта. “Воспринимая баховскую музыку, как математику и геометрию, я и портрет хотел построить как известную геометрическую фигуру, до такой степени казалась мне ясной эта скрытая в звуках математика. Музыкальные ноты как-то сами собою обращались в окрашенные плоскости холста, самые ничтожные музыкальные намеки раскрывали какие-то глубочайшие истины живописи..” Цит. по Никольский, ук. соч., С.70.
Процесс развития светоносной и воздушной живописи продолжается и в последующие годы.

Натурщица на корточках. 1919
В 1919 году художник пишет новую серию работ: четыре портрета, несколько пейзажей и ряд натюрмортов, для которых характерна осветленная красочная гамма, присутствие серебристо-пепельных, пастельных тонов.

Портрет скульптора П. Бромирского. 1919
Композиция натюрмортов строится теперь свободно и легко, пространство дышит, а предметы изображаются более реалистично чем ранее.
Художник продолжает разрабатывать проблему изображения движущегося тела, и также изучает возможность изображения человека в природе.
Пейзажи 1919 года отражают интерес Кончаловского к мотивам подмосковной природы, ранее встречавшиеся на его работах лишь эпизодически. Так, лето следующего года художник решает провести в Абрамцево, где много пишет абрамцевскую дубовую рощу и сельские пейзажи.

Серебристые тополя. 1919
Сам художник так характеризует свои работы этого периода: “В моих абрамцевских дубах есть еще, конечно, связанность живописи с сезанновскими методами, которыми я привык работать и, с которыми сроднился. Но отношение к природе у меня было теперь другое, не-сезанновское. Страстно хотелось создать живой пейзаж, в котором деревья не просто торчат, воткнутые в землю, как это часто приходится видеть в современной живописи, а логически вырастают из земли, как у старых мастеров, чтобы зритель чувствовал их корни. А для этого надо было прежде всего логически построить каждое дерево так же, как строится здание, от самого фундамента до крыши, от ушедших в землю корней до листвы верхушек. /…/ Прежде чем приняться за работу, окончательно выбрать место, я долго ходил по роще, вглядывался, изучал все детали. /…/ Самое важное для меня в древесном пейзаже — это силуэт дерева на небе, силуэт его ветвей. Старые великие мастера отлично знали это и умели делать, но подражатели обратили прекрасный прием в ремесленный “приемчик”, и поневоле приходилось через природу идти к классике, как учил Сезанн”. Никольский 1936. С. 78-79

Пруд. 1920
Кроме большого числа этюдов дубовой рощи, в 1920 г. Кончаловский пишет несколько портретов и натюрмортов, однако пейзаж на долгое время занимает в его творчестве преобладающее место.

Мост. 1920
Летом 1921 года Кончаловский продолжает работать в Абрамцеве. Теперь его интересует не только дневной солнечный пейзаж, но также зори, сумерки, туманы (“Пейзаж с луной”, “Сумерки”).

У амбара. 1921
|
|
Sorry. There are no translations available.
В 1922 году в Государственной Третьяковской галерее открывается первая персональная выставка П.П.Кончаловского, на которой были собраны рисунки и холсты, написанные за время с 1907 по 1922 годы – своего рода итог, первый публичный показ всего творческого пути художника.
Лето 1922 года художник проводит под Москвой, в селе Крылатском, где пишет очередную версию “Купальщиц”. По сравнению с аналогичной работой прошлого года, очевидна разница подхода к решению проблемы изображения обнаженного тела в природе. Основным предметом изображения теперь оказывается пейзаж, и человеческая фигура не равноценна, но подчинена ему, оказывается его частью.
Тему “купания” продолжают работы : “Перед зеркалом”, “Купающиеся инвалиды”.
Выдающейся работой, этого времени несомненно является “Портрет художника и его жены”.

Автопортрет с женой. 1923
“Портрет 1923 г. обдумывался и прорисовывался у меня очень долго. Хотелось, чтобы в нем не было никакой яркости красок, чтобы весь он был насыщен тоном, свето-тенью. Именно не “делать” предмет, не передавать признаки его вещности, а “писать”, вводить предмет в живописную его среду стремился я в этот раз. Композиция устраивалась долго, особенно в руках, пока не расположились они какою-то “восьмеркой”. Свое лицо написалось у меня как-то сразу, а лицо жены пришлось работать долго. Так как весь портрет предстояло разрешить в тоне, для жены было сшито особое платье по моему рисунку: черный бархатный корсаж и бронзового цвета рукав. Бархат я многосоставно писал, многими красками, вплоть до индийской желтой. Да и вообще я сильно поработал над фактурой этого холста, много больше, чем в “Агаве”, например. Были во время работы и опасные моменты: начиналась порча сделанного раньше, приходилось бросать работу, волноваться за будущее, вплоть до сомнений в своих силах, в уменьи осилить задачу… Много, очень много было вложено в этот портрет!” Цит. по Никольский. Ук. соч. С.87
1923 художник снова живет в Крылатском. Продолжает работать над пейзажами. Появляются такие работы как “Луна в ветвях”, “Рассвет”, “Ночной пейзаж”, “Овраг”.

Овраги. 1923
В этом же году появляются первые жанровые произведения Кончаловского: “Жатва”, “Жницы”, “Сбор урожая”.
Таким образом, начиная с произведений 1922-1923 годов, можно говорить об очередном переломе в живописи художника. Его работы теперь ближе реалистической традиции в русской живописи. Можно говорить об окончательном отходе от кубизма и “сезанизма”. Живописи художника теперь свойственно ощущение материальности, насыщенный колорит.
К периоду с 1924 по 1927 годы относятся три цикла работ художника, написанные во время поездок в Италию в 1924 году, в Новгород в 1925—1926 годах и на Кавказ в 1927 году.
В Венеции Кончаловский увлекается творчеством Тинторетто и делает много зарисовок с его картин. Пишет восемь этюдов в том числе “Дом Тинторетто”.
В Сорренто пишет серию этюдов. “Везувий утром”, “Везувий вечером”, “Везувий сквозь деревья”, “Везувий или оливковая роща”.

Cорренто. Везувий. Две оливы. 1924
По признанию самого художника, во время поездки по Италии он не ставил себе задач аналитического порядка, писал, поддаваясь влиянию природы.

Сан-Анджело. Море. 1924
В марте 1925 года Кончаловский с семьей переезжает из Италии во Францию, в Париж. Французская современная живопись подталкивает его к решению вернуться к аналитической живописи и к поискам собственного стиля.

Портрет Н.П. Кончаловской. 1925

Портрет О.В. Кончаловской. 1925
Новая живописная серия рождается у художника в Новгороде Великом, куда он едет с семьей после возвращения в Россию. Три лета подряд мастер живет под Новгородом, и пишет новгородскую природу и архитектуру.
Так же как и в Сиене, художник снова руководствуется впечатлениями, и непосредственными эмоциями, совершенно забывая о решении делать аналитическую “сознательную” живопись.
В 1926 году пишет большую бытовую композицию “Возвращение с ярмарки”.
“В “Возвращении с ярмарки” я задумал насытить движением все: и небо с бегущими облаками, и перерезанную парусниками гладь озера, и бегущих лошадей, и движение телеги. Так хотелось верно передать динамику, что я сам бегал рядом с мчащейся телегой, чтобы уловить, как располагаются во время бега лошадиные ноги. Этюд даже особый делал для оглобли, чтобы вернее схватить ее линию, хоть у меня и хорошая художественная память. Сюжет так захватывал, что и тут я не удержался, как в “Новгородцах”, наделал ошибок. Погнался, например, за изображением пыли у колес, а это совсем ненужный натурализм: просто надо было так колеса взять в самом существе их движения, чтобы зритель видел, как они пылят. В настоящей живописи, как и во всяком искусстве, всегда должна быть недосказанность, должна быть дана работа для глаза- и мозга зрителя, иначе будет скучно, выйдет протокол, а не художественное произведение. Но все это я забыл во время работы. Лицами тоже чересчур увлекся, и телегой, и сбруей. А в итоге не вышло того, что хотел сделать, совсем отбился от фрескового стиля. Меня, вот, упрекают за отсутствие тематики, а выходит так, что нехорошо, когда тематика наваливается чересчур и подминает под себя живописца. Дьявольское какое-то равновесие надо в себе соблюдать, чтобы делать настоящую живопись” Цит. по Никольский. Ук. соч. С.100-101
Продолжает писать пейзажи (“Рожь при луне”, “Стога вечером”, “Радуга”). Активно использует мотивы весеннего половодья, “затонувшие сады”, “залитые аллеи”, “прибрежные ветлы”.
Также к новгородскому периоду относятся изображения Игумена Виссариона: во время богослужения в церкви и дома, за починкой обуви. Так художник воплощает в живописи два различных аспекта человеческой жизни, что требует и различного творческого подхода.

Виссарион - сапожник за работой. 1926
Весной 1927 г. мастерскую П.П. Кончаловского неожиданно посещает группа японцев. Художник был приглашен к участию на выставке советского искусства в Японии.
Так Кончаловский знакомится с японским художником Ябе-Сан, и пишет его портрет. Кроме того, ему заказаны два портрета — Хашимото и Иокоя.
Готовясь к своей Четвертой персональной выставке в Государственном Историческом музее в Москве, художник заканчивает начатый в 1926 г. семейный портрет под названием “Миша, пойди за пивом”.
Летом 1927 года едет в Грузию, где пишет серию горных пейзажей и жанровых произведений, часто имеющих эпический оттенок.

Мцыри. Гроза. 1927

Мцхет. Сандро-Сакля. 1927
Живописный итог путешествия по Грузии – полотно “Ковка буйвола”.

Ковка буйвола. 1927
В 1928 году вновь едет в Новгород. Теперь меньше пишет пейзажи, особое внимание уделяя новгородцам (“Рыбный рынок”, “На Ильмень-озере”).
Также во время прибывания в Новгороде, мастер открывает новый для себя живописный мотив — пейзаж сквозь комнатное окно.
Уже в Москве создает портрет японского актера Тодзюро Каварасаки.

Портрет японского актера Тодзюро Каварасаки. 1928
Много пишет цветы: сирень, цветущую грушу, розы, фиалки, ландыши, орхидеи, целые букеты и даже сад в цвету.
“Цветок нельзя писать “так себе”, простыми мазочками, его надо изучать и также глубоко, как и все другое. Цветы — великие учителя художников: для того, чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. В цветах есть все, что существует в природе, только в более утонченных и сложных формах, и в каждом цветке, а особенно в сирени или букете полевых цветов, надо разбираться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику построения, выведешь законы из сочетаний, кажущихся случайными… Я пишу их, как музыкант играет гаммы. Поработаешь часика два, так ум за разум начинает заходить — вместо цветов являются уж звуки какие-то… Это грандиознейшее упражнение для каждого живописца”. Цит. по Никольский. Ук. соч., С.112.

Девушка под зонтиком. 1929
1929 год отмечен серией зимних городских пейзажей.
Летом того же года работает в Крыму (Балаклава, Гурзуф).
Пишет такие работы, как “Балкон с виноградом”, “Виноград на тарелке”, “Листья табака”".
Сам художник оценивает свои поездки на Кавказ и в Крым, как крупнейшие явления своей творческой жизни за последние годы. Много работает акварелью, стремясь к простоте и легкости композиций. Пробует писать маслом, имитируя акварельную технику и открывает в этом для себя новые фактурные возможности.
“Взяв из природы случайное, обратить его в закономерное, — таков подлинный закон композиции в живописи. Мы не можем искать композиции, сидя у себя дома и в ярости бегая по комнате, как делал Сезанн, когда ставил свои натюрморты. Мы ушли от такого способа. Нам надо из живой, нетронутой природы выхватывать ту нить, которая приводит к подлинной композиции, надо приучать свой глаз при первом же взгляде брать только то, что нужно, из всей груды случайностей..” Цит. по Никольский. Указ. соч., С.113
Параллельно художник пишет много натюрмортов, среди которых преобладают “курительные натюрморты”: изображения трубок, табачных коробок, пепельницы, листьев табака.

Натюрморт. Розовый блокнот и трубки. 1929
|
|
Sorry. There are no translations available.
Летом 1930 года П.П.Кончаловский работает в Бахчисарае и Симеизе.

Бахчисарай. Общий вид. 1930
В Бахчисарае пишет серию пейзажных этюдов и делает зарисовки и акварель для жанровой картины “Вышивальное отделение первого ткацкого коллектива в Бахчисарае”, которую пишет уже по возвращении в Москву.
“Деревенская” серия 1930 г. помимо многочисленных пейзажей, включает в себя изображения домашних животных и птиц. Характерными работами являются: “Куры”, “Петух в корзине”, “Картинка для детей”.

Петух в корзине. 1930
В этом же году начинает писать портрет А.С.Пушкина. Художник решает изобразить поэта в момент его утренней творческой работы, сидящим на зеленом диване в рубашке, поджав по-восточному голые ноги. Готовясь к работе над картиной, Кончаловский делает несколько этюдов обнаженного женского тела на фоне зеленого дивана, изучая соотношения тонов тела и диванной обивки.
Работа над портретом продолжается и весь следующий год.
Летом художник живет в Барвихе под Москвой, Осенью едет в Ленинград и затем в Рязань, где пишет серию пейзажей.
Одной из самых сильных своих вещей написанных в Ленинграде, художник считает масляный этюд “Домик Петра в Летнем саду”.

Ленинград. Домик Петра Великого в летнем саду. 1931

Петергоф. Кавалерская мыльня. 1931
Непосредственно после ленинградских Кончаловский писал зимние пейзажи Рязани, а вслед за ними улицы Москвы.

Пейзаж с луной. Большая Садовая улица. 1931

Москва. Спиридоновка. 1931
Зимой 1931 года пишет два портрета: “Портрет пианиста Владимира Владимировича Софроницкого за роялем” и портрет японки, в которых решает проблему динамического портрета.

Портрет пианиста В.В. Софроницкого за роялем. 1932
Зимой 1932 года приобретает дачу в Буграх (часть имения Обнинских “Белкино”) под Малоярославцем, в Калужской области. Пишет серии пейзажей, букетов цветов и цветущих садов, натюрморты, этюды женского тела среди пейзажа и жанровые этюды. С 1932 года начинается серия детских портретов внучки Катеньки.

Катенька у стула. 1932
В конце года выполняет эскизы декораций и костюмов к опере В.Феррари “Четыре деспота” (на сюжет К. Гольдони) для Экспериментального театра в Москве и к комедии К.Гольдони “Хозяйка гостиницы” для МХАТа.
“Мне давно уж хочется вернуть на сцену настоящую живопись, так поспешно изгнанную в угоду уже надоевшим и почти изжившим себя так называемым конструкциям. Хочется дать декорации, чрезвычайно лаконичные, скупые на детали, но добиться при этом такого лаконизма, который может превосходно сочетаться с театральной действительностью, со сценической бутафорией. Надо дать театру такие, широко написанные живописные декорации, с которыми сливались бы воедино все костюмы и находящиеся на сцене подлинные предметы, чтобы они “врастали” в живопись. Такие декорации оказались вполне возможными, как показал опыт “Четырех деспотов”". Цит. по Никольский, Ук. соч., С. 98.
Также в 1932 году совершает поездку в Ленинград для работы над декорациями для Государственного академического Большого театра.
Осенью 1933 едет Кутаиси. Однако большую часть времени в период с 1933 по 1935 год живет в Буграх, где пишет портреты выдающихся деятелей культуры.

Портрет С. Прокофьева. 1934
Было написано более ста портретов, среди них портреты С.С.Прокофьева, В.В.Софроницкого, А.О.Степановой, Н.С.Голованова, В.Э.Мейерхольда, А.Н.Толстого, К.С.Симонова, В.Г.Дуловой, А.Довженко, С.Я.Маршака, Б.Н.Яковлева, А.И.Хачатуряна, З.А.Долухановой, А.Корто, К.Цекки, Альберта Санчеса и др.

А.Н. Толстой в гостях у художника. 1940
Также продолжает работать над пейзажами, изображениями букетов цветов и цветущих садов, натюрмортов и жанровых этюдов.

Сад в цвету. 1935

Пионы в корзине. 1935
В 1937 едет в Кировск и Апатиты где также продолжает писать. Осенью этого года пишет натюрморт “Мясо, дичь и брюссельская капуста”.
1938 году совершает поездку в Хохлому. Работает над картиной “Хохломские рисовальщицы”.
В том же году был написан портрет Мейерхольда у него дома, на диване, на фоне ковра.

Портрет режиссера В.Э. Мейерхольда. 1938
Летом 1938 года едет в Кисловодск, где делает серию эскизов сбора винограда и зимой пишет картину, используя этот сюжет.
В 1939 году совершает путешествие с сыном на Кавказ.
|
|
Sorry. There are no translations available.

Дети в парке.1940
В 1940 году пишет серию портретов и, наконец, заканчивает картину “Пушкин” (писал 8 лет).
С началом Великой Отечественной войны художник с семьей остается в Москве, и начиная с ноября 1941 года вновь возвращается к работе.
Пишет портрет Юмашева, работа над которым длится до января 1942 года.
Так же художник создает картины на темы актуальные для военных лет (полотно „Где здесь сдают кровь?”, 1942 г.).

Автопортрет с внучкой (Маргот). 1943
1942-1943 год работает над портретом М.Ю. Лермонтова.
“В бомбоубежище перечитывал Лермонтова, мне явилась мысль написать нашего великого поэта-патриота. Попалось мне как раз издание моего отца. Многие воспоминания нахлынули на меня. Бывая на Кавказе, я часто представлял себе Лермонтова именно на станции Казбек. Так я и решил изобразить его и, сделав эскиз, принялся изучать его портреты, быт и костюмы того времени. Перечитал все воспоминания о нем, и это помогло мне представить себе поэта… В июле 1942 года я вернулся к Лермонтову. Снова стал перечитывать его биографию, воспоминания о нем, ища наиболее яркий момент в его жизни для картины. После смерти Пушкина еще мало известный Лермонтов, потрясенный и разгневанный трагической кончиной „солнца земли Русской” (слова Достоевского), пишет гениальные стихи „На смерть поэта”. Стихи на устах у всей России. Лермонтов, уже признанный поэт, едет в изгнание на Кавказ, в действующий 44-й Нижегородский драгунский полк. Первая ссылка Лермонтова на Кавказ тема моей картины.

Лермонтов М.Ю. 1943
Образ Лермонтова я искал в портретах, написанных с натуры, в воспоминаниях современников и, наконец, в его поэзии. Лермонтов, гордый и счастливый признанием, тоскующий по родине, почти юноша таков должен он быть на моей картине. В изгнании Лермонтов написал замечательное стихотворение „Казбеку”, выражающее его тревогу, его тоску.
„Лермонтова” я закончил в апреле 1943 года.”. Автобиография. Л. 5—6.

Весна. Дворик. 1942
В годы войны, также пишет три московских весенних пейзажа, три сирени, три букета, два автопортрета, портрет Л. И. Толстой и С. Н. Тройницкого.

Весна в Москве. Конюшковская улица. 1943
В 1944 выполняет эскизы и декорации к опере Ж.Бизе “Кармен” для Государственного академического Большого театра СССР. Работа продолжается и в 1945 году.

Натюрморт. Красный поднос и рябина. 1947
В 1946 году пишет натюрморт “Апельсины и мятая бумага”, посвященный П.П.Чистякову, а также создает жанровую картину — „Полотер”, написанную в точной, уверенной живописной манере.

Полотер. 1946
Во второй половине 40-х годов Кончаловский пишет большое количество портретов, часто камерного характера.
Можно отметить портрет хирурга А. А. Вишневского (1951) или длинный ряд портретов внуков художника, как, например, картины: „Маргот танцует” (1949), „Андрон с собакой” (1949), „Маргот с кошкой” (1948).
Также к послевоенным годам относятся многочисленные пейзажи, картины с изображением народной жизни на фоне русской природы („С покоса” 1948, “Гребут сено” 1947), натюрморты („Полевые цветы на фоне зеленых жалюзи”, „Шиповник на фоне белой изразцовой печки”, „Вино и ветчина”, длинный ряд „Сиреней”).

Жасмин и шиповник у печки. 1953
Работами этого периода художник как бы суммирует свой творческий опыт. Стремится к синтезу в живописи и снова начинает писать большие полотна.

Под деревьями. 1954

Розочки и спаржа. 1955

Натюрморт. Сирень , ведро и лейка. 1955
Во вступительной статье к каталогу, сопровождающему Пятнадцатую персональную выставку Кончаловского (1951), Всеволод Иванов подводит итог предыдущих лет творчества художника: “Творчество Кончаловского по-настоящему развилось в наши дни, а предыдущие — были лишь подходом к его настоящему празднику… Краски Кончаловского ярки, солнца и воздуха в его картинах много, колорит его необыкновенно сочен, предметы он показывает рельефно, выпукло… 15 юбилейная выставка П.П.Кончаловского — громадная победа художника.
К этой победе художник пришел, став на путь настоящего, искреннего служения своим искусством народу. Автор композиций, пейзажист, портретист, театральный художник, мастер натюрмортов, расписывающий фарфоровую посуду и образцы жестяных подносов, — всюду он большой художник, жизнь любивший и в жизни больше всего влюбленный в искусство… Труженик, каждый вечер жалеющий, что день кончился, “а рука-то ведь не устала “; тонкий ценитель чужих работ, радующийся появлению нового таланта и всячески помогающий выдвижению этого таланта; общественный деятель, горячо любящий Советскую родину и ее успехи во всех областях жизни, — таков П.П. Кончаловский, певец цветов, солнца и тепла”.
|
|
Sorry. There are no translations available.
Предлагаемые в разделе мысли художника были записаны в 1930-х годах искусствоведом В.А.Никольским и опубликованы в его книге „Петр Петрович Кончаловский”, М., „Всекохудожник”, 1936.
Произведения Ван-Гога раскрыли мне глаза на свою живопись. Я ясно почувствовал, что не топчусь больше на месте, как раньше, а иду вперед, знаю, как должен художник относиться к природе. Не копировать ее, не подражать, а настойчиво искать в ней характерное, не задумываясь даже перед изменением видимого, если этого требует мой художественный замысел, моя волевая эмоция. Ван-Гог научил меня, как он сам говорил, «делать то, что делаешь, отдаваясь природе”, и в этом была великая радость.
Ван-Гог и Сезанн, мне кажется, не противоречат друг другу. Их творчество стремится по одному руслу, они близки пред лицом природы, потому что оба они — потомки и продолжение великого Моне. В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 года, в Сен-Максиме, там, наверное, найдутся рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами и „куски” от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их. Вы можете найти влияние обоих этих мастеров, например, у Матисса: декоративные элементы идут от Ван-Гога, а обобщение, синтез — от Сезанна. Впрочем, влияние Ван-Гога и у Пикассо найти можно, и у Дерена, и у многих французских художников. Метод понимания природы был мне дорог у Сезанна. Я долго следовал ему, потому что именно сезанновские методы давали возможность по-новому видеть природу, которой я всегда хочу быть верным…
Я в те годы инстинктивно почуял, что без каких-то новых методов нет спасения, нельзя найти дорогу к настоящему искусству. Оттого и ухватился за Сезанна как утопающий за соломинку.
До сих пор [до поездки в Испанию в 1910 году] я знал какого-то не настоящего, „итальянизированного” Веласкеза, а в „Гобеленовой фабрике” и других вещах Прадо увидал подлинного испанского художника: не только по колориту, как в эрмитажном портрете папы Иннокентия, а холодного, сумрачного. Какие потрясающие у испанских мастеров оттенки голубого, мышино-серого, черного! Вся Испания окрасилась для меня в цвета этих старых живописцев. Они меня захватили с такой силой, что, когда мы были в Эскуриале, я прошел мимо чудесных, красочных гобеленов Гойи и не оценил их… Вот поглядеть бы их, поехать сейчас в Испанию!
Первоначально я написал „Бой быков” [1910 года.] совсем реально, — Суриков считал эту вещь замечательной по жизненности передачи, а мне не нравилась она. Хотелось сделать быка характернее, не таким, каким все его видят, а похожим на примитив, на игрушку. Я всегда любил народное искусство. Помните этих троицких игрушечников, которые всю свою жизнь резали из дерева какого-нибудь игрушечного медведя с мужиком. С какой простотой и силой передавали они самое существо зверя и человека, пуская в дело элементарнейшие средства, все сводя к двум-трем характернейшим деталям. Вот так именно, „по-мужицки», „по-игрушечному” и хотелось мне дать быка во время боя. Хотелось, чтобы он казался не то игрушкой, не то самим „дьяволом”, как изображали его в средние века в церковных притворах. Таким я и переписал его. Суриков, помню, считал, что я ошибся, и все жалел прежнего быка, а мне новый нравился больше.
Природа Франции и Италии всегда насыщена воздухом, прозрачностью, цвета часто стают там в какой-то дымке. В Испании, как я говорил уже, совсем напротив — цвета страшно упрощены, черный и белый господствуют над всеми другими, как будто посыпают своим пеплом все другие краски. Для меня Испания — это какая-то поэма черного и белого, так я почувствовал ее и такой, конечно, должен был изображать. Все время, пока я жил в Испании, меня преследовала мысль овладеть искусством упрощенного синтетического цвета. Эту же задачу я решал в портрете жены и детей 1911 года [в „Семейном портрете".]. В нем, по-испански, доминируют два цвета: черный и белый. Как ни сильно даны в портрете красный и зеленый, они играют строго подчиненную роль, их дело — только подчеркивать звучность двух основных нот портрета. Введенная в фон китайская картина служит аккомпанементом этим основным тонам. В ней снова дано черное, серое и повторные ноты для красного — розовые жабры рыбы и зеленого — голубовато-зеленая волна. В этом портрете, если вглядеться, окажется уже некоторое ощущение вещности предметов и начатки конструктивизма.
Всех нас объединяла тогда [в 1910 году. — К. Ф.] потребность пойти в атаку против старой живописи. Хотелось живописи, приближающейся по стилю к средневековым фрескистам, вспоминали Джотто, Кастаньо, Орканью и других мастеров. Это был для нас своего рода „период бури и натиска”, как при выступлении романтиков. Мы считали, что остро сделанная тема все равно станет острой, какова бы она ни была в действительности. Надо было добиваться этой остроты живописи. Но мы знали также, что самая острая тема превращается в ничто, раз плоха живопись. Нам тогда казалось, что нужно прежде всего овладеть живописным языком — и все окажется великолепным, что бы ни написал художник, если будет хорошо написано. В настоящем произведении искусства живописи что и как, разумеется, сращены неотделимо. Замысел, идея вещи должны подсказывать живописцу, как надо их выразить.
Основывая „Бубновый валет”, наша группа ничуть не думала „эпатировать” буржуа, как теперь принято говорить. Ни о чем, кроме живописи, решения своих задач в искусстве, мы тогда не думали. „Идеология” пришла позднее, когда в 1912—1913 годах, после раскола, „Бубновый валет” стал устраивать диспуты в Политехническом музее, и к нам примкнули футуристы. Дело было в том, что при самом основании „Бубнового валета” не все мы относились к искусству одинаково. Яркие живописные дарования Ларионова и Гончаровой, естественно делали их нашими союзниками, но в отношениях к искусству у нас была большая разница. Машков, Куприн, Лентулов и я — мы относились к живописи с какой-то юношеской страстностью и бездумностью, полнейшей незаинтересованностью в материальном смысле. А группа Ларионова и тогда уже мечтала о славе, известности, хотела шумихи, скандала. От этого произошел у нас так быстро раскол: Ларионов, Гончарова и другие вышли из „Бубнового валета” и образовали свое более левое объединение — „Ослиный хвост”.
Часто приходится слышать о революционности „Бубнового валета”, но это слово, по-моему все запутывает только потому, что в наши дни оно имеет определенный политический смысл. Мы же и не думали, конечно, в ту пору о революции в политическом смысле. Мы думали, что делаем революцию только в самой живописи. Было, конечно, много молодых увлечений, крайностей, но все они прошли, а то, что было ценно и нужно, чего добивались, — хорошая живопись осталась. Нас ругают за отсутствие тематики, но качественности нашей живописи отвергнуть не могут, а в этом вся суть, потому что без высокой качественности не может существовать никакой настоящей живописи, а уж тем более тематической. Я так смотрю на это дело.
Портрет Якулова [1910 года] я писал в каком-то победном настроении, таким крепким чувствовал себя в живописи после Испании. Совершенно искренне, в самой неприкрытой форме хотел я в этом портрете противопоставить излюбленной многими художниками миловидности, причесанности и прилизанности портрета то, что считалось, по общему мнению, безобразным, а на самом деле было чрезвычайно красивым. Показать хотелось красоту и живописную мощь этого мнимого безобразия, показать самый характер Якулова. Об этом портрете услыхал от кого-то Бенуа, приехал в мастерскую и уговорил показать портрет на ближайшей выставке „Мир искусства”, прежде чем он будет выставлен в „Бубновом валете”. Я привез портрет на выставку, но его оказалось очень трудно повесить: все художники боялись соседства с таким „страшилищем”. „Вешайте где хотите, мне все равно”, — сказал я. На выставке был Серов, но он с некоторых пор стал относиться ко мне как-то прохладно, и ему больше нравилась живопись Машкова. Серов улыбнулся и заметил: „Вам-то не страшно, а вот другим каково?” Я тут не вытерпел и прямо „в лоб” спросил: „А вам то, Валентин Александрович, нравится?” И помню, удивило меня даже, с какой искренностью ответил он: „Очень нравится”. Особенно удивительным показался этот ответ потому, что бывший тут же Остроухов, отвечая на такой же мой вопрос, совсем злобно прошепелявил, сверкая глазами сквозь очки: „Нравится”. Ну, а газетные критики, конечно, были совсем другого мнения — увидали в Якулове „жертву автомобиля”. Один „остряк” из зрителей прямо написал под портретом на выставочной стене „дурак”. Вот как просто и откровенно тогда было.
Именно в Сиене в [1912 году] я обратил почему-то внимание на то, что живые люди садятся иной раз в итальянской комнате так, будто они позируют для фрески. Сама жизнь подсказала мне для сиенского портрета это фресковое, круговое построение. Круглоту композиции, ее пространственность особенно четко показывала здесь дверь с лестницей за спиной жены, в самой высокой точке полукружия. Сиена и дала мне ту монументальность в композиции, которая есть в этом портрете. В цветовом его решении я держался примитивных, упрощенных тонов — в фресках тоже все страшно упрощено, хотя изображение на них нередко и кажется совершенно живым. Помню, как обрадовало меня маленькое „открытие” у сиенского портрета: как-то раз около стоявшего на полу у стены холста случайно поставили стул, и оказалось, что он просто врастает в картину, сливается с ней вопреки всей упрощенности ее форм. Пробовали ставить у портрета другие вещи — все то же, врастали в холст и они. Так открылся мне „секрет” реальной живописи, противоположной по своим качествам натуралистической иллюзорности. Этот „секрет” давал какую-то новую дерзость и силу, открывал новые качества живописи, совсем далекие от импрессионизма…
Проблема наклеек стала просто преследовать меня после случая со стулом в Сиене. Дело в том, что всякая наклейка в живописном произведении заставляет страшно повышать тон живописи, доводить его до полнейшей реальности, работать одним синтезом цвета, совершенно выключив всякую эмоцию живописца, всякую живописную среду. Из удовольствия спорить с действительностью, добиваться осязаемой передачи вещности предметов, отнюдь не впадая в натуралистические крайности, и делал я эти наклейки, а, уж конечно, не для изумления зрителей. Это нужно было только мне самому, моему искусству, без этого я не мог бы двинуться вперед, вот в чем дело, а о зрителе я в ту пору и не думал совсем.
Это [кубизм] мне нужно было, чтобы окончательно овладеть искусством извлекать из природы одно характерное, существенное, чтобы научиться строить композицию, окончательно разделаться с традициями живописного натурализма. Я заранее знал, что буду обруган, и все-таки шел на выставки, шел потому, что интересно было узнать мнение и оценку товарищей, таких же искателей, как я, да людей, тонко чувствующих живопись, а все остальное терпеть надо было.
Валлотон очень тонко подметил национальный, „славянский” характер моей живописи, которая слыла тогда в Москве чисто французской. Иначе, разумеется, и быть не могло. Я, конечно, мог быть „французом”, только с московской точки зрения. Я понятен для настоящих французов потому, что работал французскими методами живописи, но все же всегда останусь для них славянином и даже „варваром” по колориту, как писали французские критики.
Я считаю барбизонцев, по существу, ветвью старой голландской пейзажной живописи. В известной „Дороге в Миддель-Гарнисе” Хоббемы Лондонской галереи заключена уже вся барбизонская школа. Но живопись барбизонцев острее голландской, потому что они разрабатывали в своем искусстве только одну из сторон всеохватывающего голландского пейзажа. Мы же, современные пейзажисты, разрабатываем в пейзаже еще меньшую его часть, чем брали барбизонцы, потому что мы — аналитики, идем своей дорогой, работаем своими методами.
Находящийся в Париже „Самовар” я считаю самым сильным из натюрмортов того года. Здесь я решил совсем особую задачу. Всякий блеск можно передавать в живописи двумя способами: либо градациями светотени, либо разложением на плоскости всех цветовых оттенков блистающего предмета. Это, конечно, нелегкая задача, но впечатление металла, стекла, чего хотите блистающего будет передано, если я вполне логично разложу все оттенки. Иллюзии, обмана, разумеется, не будет, а реальность окажется налицо. Это-то меня и занимало в ту пору, потому-то и нравилось писать металл, хрусталь, фарфор. Мечтал даже написать какой-нибудь драгоценный камень, разложив его на плоскости.
Значение фактуры в живописи было, конечно, ясно для меня и раньше. Я всегда любовался, например, фактурой Ренуара, а фактура Тициана специально изучалась даже, но самые-то задачи фактурного порядка еще не ставились на очередь, потому что были иные, более насущные задачи. Забота о фактуре может возникать у художника только тогда, когда живописная его манера созрела уже, а это произошло у меня только к 1916 году. Я особенно заботливо подготовлял холст для „Агавы”, а в живописи стремился, чтобы сама фактура передавала внешние свойства предметов: матовость бумажного листа, до упругости налитые соком листья агавы, маслянистость полированного дерева. Здесь и техника письма была у меня необычайной: писал по полусухому, прибегал к лессировкам, употребляя много лака. Но уже после „Агавы” я почти не мог отделаться от вопросов фактуры, что бы ни писал,— забота о поверхности стала одной из составных частей моей манеры.
Самое великое и ценное в художественном произведении — это его замысел. Упустить время для реализации замысла — это значит потерять все. Пушкин не раз говорил: какие прекрасные замыслы стихотворений рождались иногда у него, но, если не было возможности записать, стихи забывались. Осуществление замысла — это какой-то совершенно логический процесс, и он должен совершиться в необходимый для него момент, не раньше и не позже. Пропущен этот момент — нет произведения или оно будет неудачным, охлажденным… Некоторым кажется, что я вообще спешу работать и пишу чересчур много в ущерб самому себе. Это неверно. Я пишу много просто потому, что у меня всегда есть много художественных замыслов, потому что они непрерывно рождаются и требуют реализации, и потому еще, что ничем другим не занят, кроме живописи. Я тороплюсь тогда только, когда чувствую, сознаю, что настал момент для реализации замысла. Тут уж не может быть решительно никаких отсрочек. Это много раз проверено мною на опыте, и, если была задержка, я всегда оставался в проигрыше как художник. А потому, как бы ни хотелось мне пойти в театр на премьеру, на концерт или еще куда-нибудь, но, если я почувствую, что можно опоздать, пропустить нужный момент, я должен бросить все. Я считаю, что так и должен поступать всякий художник. Он должен приучить себя все бросать ради живописи, быть беспощадным в этом смысле. Вот почему я и не мог работать как следует, как мне нужно и как я привык, пока служил на военной службе и когда был профессором. Живопись по совместительству — это не искусство.
К концу военной службы я инстинктивно почувствовал, что намеченные пути в живописи как будто пройдены уже и надо искать какие-то другие, новые. Казалось, близкое общение с природой покажет этот дальнейший путь, и в этой надежде мы ехали в Крым впервые в жизни. Природа Крыма в ее живописном существе была совершенно неясна мне, но я рассчитывал взять ее так же, как брал приморскую природу юга Франции,— волевым эмоциональным натиском на основе имеющихся и проработанных уже в живописи восприятий. И вот Крым не открылся мне, не воспринимался, не укладывался в мои схемы. Стало ясно, что найденного уже в живописи до сих пор недостаточно, и это очень смутило меня сначала, но, подумав, я понял, что иначе и быть не могло бы. Пока художник идет от самой природы, его восприятия свежи, интересны всякие его искания, нова и значительна его живопись. Но как только он подходит к природе свысока, чувствуя себя победителем, возвышая себя над природой,— конец искусству. Так случилось и со мной: чувствительный, страшно полезный урок дал мне в тот раз Крым. Вернувшись оттуда и окончательно сняв мундир, я, как ученик, приник к природе, и тогда быстро исчезло крымское чувство тупика.
Изучая в музеях и картинных галереях искусство великих мастеров прошлого, я всегда поражался необычайной жизненностью их передачи. Смотришь, бывало, на какой-нибудь веронезевский пир, на эту пышную, как букет расцветающую красками своих одеяний толпу, до такой степени живую, что, кажется, движется все на холсте. Потом взглянешь на серые, одноцветные и тусклые фигуры посетителей и удивляешься: да это те же люди, та же толпа, что на холсте. Стирается грань между природой и ее воплощением. Достигнуть в живописи такой силы воплощения — вот труднейшая из задач всякого живописца, вот к чему должен он стремиться, по моему мнению. И в этом портрете [в „Семейном портрете" 1917 года], в фигуре дочери, я именно хотел спорить с самой жизнью. Другое дело — насколько мне удалось, но я хотел именно этого. Когда писал в портрете косу у дочери, чувствовал себя так, будто заплетаю косу живому существу, и наслаждался этим чувством. Наслаждался сознанием, что при помощи краски орехового цвета можно сплести в конце концов совсем живую косу, сплести ее так, что в косе будет ощутимо чувствоваться живой волос живого человека… Такая работа дает художнику самые счастливые минуты в жизни. Ощущение жизни человека среди других предметов — это какое-то чувство космического порядка, и, раз пережив, трудно забыть его.
„Скрипач” [портрет скрипача Г. Ф. Ромашкова 1918 года.] показался тогда мне как-то выпадающим из общего хода моей живописи, каким-то необыкновенным. До тех пор меня сильно притягивала именно вещность природы, телесность, а здесь противно было даже думать о мясе, костях, человеческом скелете; так хотелось, чтобы все было одухотворенным, совершенно лишенным вещности, земной плоти. Не знаю, так ли это было на самом деле, но мне кажется, что эта одухотворенность шла от музыки, от дивной ее математики и логики, которыми так силен Бах. Баховская математика захватывала и уносила меня куда-то, создавала тот подъем, при котором художнику кажется, что работаешь сам не зная как, совершенно бессознательно, а на самом деле именно в это-то время и обладаешь невероятно ясным сознанием того, что именно надо сделать. Воспринимая баховскую музыку как математику и геометрию, я и портрет хотел построить как известную геометрическую фигуру, до такой степени казалась мне ясной эта скрытая в звуках математика. Музыкальные ноты как-то сами собой обращались в окрашенные плоскости холста, самые ничтожные музыкальные намеки раскрывали какие-то глубочайшие истины живописи… Но никакого восторга я не чувствовал во время работы; напротив, было холодное сознание ясности того, что хочешь сделать, все виделось страшно определенным и работалось безбоязненно.
Трудно поверить, а „Скрипач” написан за один сеанс. Я отлично видел, что вещь не сделана, не кончена, не везде даже холст был записан за первый сеанс, но мне казалось, что она дает уже зрителю все, что нужно, и потому решил прекратить работу. Сказать по правде, жутко было писать дальше при мысли, что достигнутая одухотворенность может пострадать от большей законченности, что выиграет, быть может, живопись, но, наверное, пострадает впечатление, уменьшится эмоциональность. И, вспоминая о том, как быстро, смело и бестрепетно писался этот портрет, я только укрепляюсь в мысли, что, по существу, в творческом своем развитии и созревании он вполне закончен и не требует никаких поправок и дополнений. За работой над этим портретом я получил новый урок искусства подходить к природе. Одно, дело, когда просто пишешь с натуры — это дело главным образом физиологическое, мускульное. Совсем другое в тех случаях, когда постигаешь природу как математическую выкладку и передаешь ее именно такой. Впечатление от живописи этого рода всегда будет бесконечно живое, она сильнее взволнует и художника и зрителя…
Я заметил, что у меня бывают какие-то параллели в восприятии музыки и природы, так тесно они связаны для меня одна с другой. Не редкость, что слушание музыки вызывает у меня чисто живописные замыслы, удивительно логичные, яркие, полные красоты. Музыкальная фраза, особенно у Баха, выявляет для меня природу. И от баховской математики идет желание быть скупым в выразительных средствах своей живописи. Полной простоты, так необходимой для настоящего искусства, можно достигнуть только через постижение этой математики. Это, конечно, процесс подсознательный, рассказать о нем я не умею, но, по-моему, это так. Да только так и может быть в подлинном искусстве.
В моих абрамцевских дубах [1920 года.] есть еще, конечно, связанность живописи сезанновскими методами, которыми я привык работать и с которыми сроднился. Но отношение к природе у меня было теперь другое, не сезанновское. Страстно хотелось создать живой пейзаж, в котором деревья не просто торчат, воткнутые в землю, как это часто приходится видеть в современной живописи, а логически вырастают из земли, как у старых мастеров, чтобы зритель чувствовал их корни. А для этого надо было прежде всего логически построить каждое дерево так же, как строится здание, от самого фундамента до крыши, от ушедших в землю корней до листвы верхушек. И помню, как удивило меня, когда узнал, что некоторые здания тоже имеют свои „корни”. Хорошо известная мне башня в Сиене, как оказалось, построена, как дерево: у нее есть свои „корни”, оберегающие постройку от землетрясений. Прежде чем приняться за работу, окончательно выбрать место, я долго ходил по роще, вглядывался, изучал все детали. Изучал не для того, чтобы все их переносить на холст, а чтобы, зная их, легче постигнуть логику строения стволов и ветвей, разобраться в их мешанине так, как Александр Иванов умел разбираться в свое время в итальянских оливках, делая из них какую-то феноменальную, но очень верную природе „лапшу”. Надо было найти ритм в этой путанице, подслушать и закрепить в математике форм самую мелодию этой мнимой путаницы, ничуть не нарушая, однако, точности соотношений. Опять на Иванова сошлюсь: в его этюдах листья — ну хоть у тех же оливок — всегда взяты в натуру по отношению к стволам, вот как умел видеть человек… Самое важное для меня в древесном пейзаже — это силуэт дерева на небе, силуэт его ветвей. Старые великие мастера отлично знали это и умели делать, но подражатели обратили прекрасный прием в ремесленный „приемчик”, и поневоле приходилось через природу идти к классике, как учил Сезанн.
Кстати, по поводу приемов в живописи. Все мы, художники, разумеется, условны в известной степени, но есть условность, являющаяся высоким качеством живописи, показывающая мастерство и находчивость художника, и есть иная условность — трафаретный „приемчик”, живописная „болтовня” дурного вкуса. Настоящий, мастерски найденный в природе прием — это такая условность, которая покоряет зрителя, если даже он видит и чувствует эту условность. А „приемчики” чуткий зритель всегда почувствует и хорошо определит их отталкивающую от живописи силу. Настоящий прием в живописи — это мазок, совершенно точно, исчерпывающе передающий форму, а чуть есть ошибка в нем — вместо приема получается плохая условность, пустое место… Можно сказать, и некоторые говорят: „Да ведь это чистейший формализм”. Это неверно, не в этом „формализм”. Всякое здоровое начало может обратиться в болезнь от излишества, от неумелого пользования. Живопись, разумеется, никак не может существовать вне совершенной формы, без высоких формальных качеств произведения. Правда, если вся цель живописи только и заключается в бездушной передаче формы ради формы — это плохая живопись, это злоупотребление формой, это настоящий „формализм”, какое-то школьное упражнение в лучшем случае, а никак не самоценное искусство. Но если форма в живописи служит только средством для передачи художественных эмоций, известного содержания, одухотворенного замысла художника, как можно отрицать необходимость тщательнейшего изучения такой формы, полнейшего владения ею?
Как сильна была, например, формальная сторона у Сурикова, а уж он ли не одухотворенный, насыщенный психологическим содержанием мастер? Одновременно формальная сторона, умение видеть и схватывать форму невероятно были сильны у него. В высших своих проявлениях он прямо колоссален как мастер. И происходит эта колоссальность также от овладения формой, от глубочайшего ее знания. Суриков страшно любил то живописное естество в искусстве, которое у старых мастеров, у Рафаэля например, особенно сильно выражено, достигает громадной изысканности, временами доходит прямо до любования формой. У него не найдешь признаков однообразия, как, например, у Рубенса. Рубенс не так уж зорко видел, не везде мог высмотреть то, что истинно. А художник, в конце концов, только истинное и должен брать из природы. Надо не одну внешность, но самый феномен природы видеть, постигать сущность явлений. Когда смотришь на натуру и увидишь, раскроешь настоящие ее формы, тогда писать с натуры одно наслаждение. Постижением и закреплением формы и был силен Рафаэль. Да и в других областях то же: у Пушкина как колоссальна была формальная сторона, как у него все сработано, как неразрывен союз формы и содержания. Это-то и есть настоящее, большое, полное искусство, в нем всегда форма слита с содержанием.
Но вернемся к абрамцевской роще. Самый замысел пейзажа завязывался у меня там либо понизу — от корней, либо поверху — от вершин. Пристально выслеживались все основные, ведущие красочные массы, особенно в осенних пейзажах: там нельзя не найти самого яркого, ведущего пятна, иначе не построится пейзаж. В живописи, как и во всяком искусстве, вся суть в отборе. Можно так лес написать, что будут в нем все стволы и ветки, а можно и широкими планами писать: один какой-нибудь ствол дать, одну ветку, а зритель будет видеть целый лес. То, что передано очень уж близко к природе, иногда и не похоже на нее совсем. Суриков часто говорил: „Сколькими деталями жертвовать надо”.
Все, что видишь, нельзя брать, надо обобщать, отбирать. Толстой правильно сказал: „На художественное произведение берут только то, что по шерсти, а что не по шерсти — откидывают”. Здесь под „шерстью” надо разуметь, конечно, художественный замысел, который и руководит всем процессом отбора.
Не облеченная в зрелые формы задушевность пейзажа — это, по-моему, просто дешевый прием, и я его боялся раньше. Она могла исказить самый способ смотреть на природу, сбить с верных путей. Но теперь я чувствовал в себе силы уложить и задушевный свой замысел в живописные формы, которые я считал верными, подлинными, способными наполниться содержанием… Для нас, живописцев, слово „содержание” должно значить в первую голову живописное содержание, живописный смысл произведения. Художник — это тот, кто умеет раскрыть мир и там, в этом бесконечном космосе, увидать что-то новое, открыть и показать его. Это-то открытие и есть содержание…
„Портрет” — очень сложный и многообразный вид живописи. Но главное здесь в том, чего ищет художник: психологии или художественного образа, то есть неразрывнейшей связи психологии с формой, такой связи, когда психология сполна растворяется в форме. В современном портрете очень много чисто психологической экспрессии — Репин, Серов, Цорн. Зато именно художественными образами наполнено творчество старых мастеров, такой именно экспрессии много у Тициана, Рафаэля и так дальше. Художественный образ, конечно, должен быть вполне реален, но никак не натуралистичен. Посмотрите, например, как Тициан изображает человеческое тело. Оно живет у него какой-то особенной жизнью, потому что художник не следует рабски за природой; если нужно, обобщает формы, в одном человеке видит, быть может, все человечество, как видели и древнеэллинские скульпторы. Именно от их мраморов и идут формы всех этих тициановских Венер и Диан, это-то и есть то, что мы называем настоящим художественным образом. Это и должно составлять, по-моему, высшую цель в искусстве даже в тех случаях, когда оно насквозь тематическое. Тема тогда только возвысится над простой иллюстрацией и приобретет длительное значение, когда художник найдет для нее высокие художественные образы, когда во временном и преходящем увидит, как Шекспир, вечно человеческое… Я вообще не люблю в портрете давать человека в быту, а всегда стремлюсь найти стиль изображаемого человека, открыть в нем общечеловеческое, потому что мне дорого не внешнее сходство, а художественность образа. Общечеловеческого и ищу я прежде всего в оригиналах моих портретов. И в этом мне много помогают великие мастера эпохи Возрождения, умевшие создавать вечно притягательные портреты каких-то совершенно неведомых нам людей. Суриков верно говорил: „Греческую красоту и в остяке найти можно”. Ее-то и надо искать в портрете, если понимать его как художественное произведение, а не как простое воспоминание о таком-то человеке, рассказанное на языке живописи.
Разумеется, форма и цвет всюду существуют но одним и тем же законам, но никак не значит, что к человеку можно относиться в живописи так же, как к бутылке какой-нибудь. И мне очень странно слышать обвинения в натюрмортности, предъявляемые теперь к моим портретам. Они могут быть несовершенны по живописи, пусть даже плохи, но это совсем не потому, что я и теперь подхожу к человеку с точки зрения вещности природы. Это кончилось еще со «Скрипачом», в 1918 году. В портретах, написанных до той поры, я действительно искал вещности, натюрмортности, потому что искал ее во всем. Но для портретов, написанных после революции, такое обвинение необоснованно, в корне противоречит моему пониманию искусства живописи. Вот если бы меня обвинили в отсутствии психологизма, серовских исканий характера личности, это было бы верно и я должен был бы принять такое обвинение…
Портрет 1922 года („Автопортрет с женой” 1923 года. — К. Ф.) обдумывался и прорисовывался у меня очень долго. Хотелось, чтобы в нем не было никакой яркости красок, чтобы весь он был насыщен тоном, светотенью. Именно не „делать” предмет, не передавать признаки его вещности, а „писать”, вводить предмет в живописную его среду стремился я в этот раз. Композиция устраивалась долго, особенно в руках, пока не расположились они какой-то „восьмеркой”. Свое лицо написалось у меня как-то сразу, а лицо жены пришлось работать долго. Так как весь портрет предстояло разрешить в тоне, для жены было сшито особое платье но моему рисунку: черный бархатный корсаж и бронзового цвета рукав. Бархат я многосоставно писал, многими красками, вплоть до индийской желтой. Да и вообще я сильно поработал над фактурой этого холста, много больше, чем в „Агаве”, например. Были во время работы и опасные моменты: начиналась порча сделанного раньше, приходилось бросать работу, волноваться за будущее, вплоть до сомнений в своих силах, в умение осилить задачу… Много, очень много было вложено в этот портрет!
Я рисовал (во время пребывания в Италии в 1924 году. — К. Ф.) с Тинторетто, как с живой природы, и тогда только понял, как бесконечно жизненна его живопись в каждом своем куске. Помню, в „Голгофе” поразили меня фигуры воинов, мечущих кости, и я бегло зарисовал структуру этой группы. Потом, совсем случайно, в рисунках Тинторетто мне попался его набросок к этой группе; просто в жар бросило от радости, что мне посчастливилось угадать творческий замысел этого несравненного мастера.
Такие моменты [захватила природа Сорренто в 1924 году.] всегда записываются на приход в душе, хоть они и не кажутся мне особенно полезными для развития личного творчества художника. Это была для меня пока какой-то дремоты и грез после глубоких душевных переживаний войны и революции, пора духовного подъема, оставляющего след на всей дальнейшей работе, заряжающего на целые годы бодростью и радостью. Но художник не может долго дышать разреженным воздухом таких высот – он привык работать в долине, для настоящего движения вперед ему всегда необходимо полнейшее внутреннее равновесие, а здесь оно было утрачено, конечно.
С грустью уезжал я из Венеции [в 1924 году.]. Сколько живописцев писали ее, хотя бы в древние только времена: Карпаччио, Джентиле Беллини, Бассано, Лонги, Каналетто, Гварди, Беллото, и у всех у них была своя Венеция, и все они писали ее верно. Как жалею теперь, что в ту пору нашла на меня полоса какой-то „бездумной” живописи, что я не ставил себе в то время задач аналитического порядка. Хоть и недолго мы прожили тогда в Венеции, а все же я мог бы уловить хоть частичку ее души… Да, это было счастливое, полное радостей путешествие.
Все привезенные мною вещи нравились, имели успех, а я все-таки недоволен ими. Они были бы сильнее, если бы меня не захватила так, до полного порабощения, совершенная красота всего видимого. Правда, этот „захват” согрел мою живопись, насытил ее эмоциями, но когда я писал, то не вполне владел собой, а это, с моей точки зрения, плохо для живописца. Когда он не владеет собой во время работы, его живопись снижается, потому что из нее выветривается самое главное, что должно быть в искусстве всякого художника,— искание своего стиля. В довоенных вещах я полон крайностей, я гиперболичен подчас, но это потому, что я искал тогда стиля именно в жесткости, грубости, в простоте. Все великие, любимые мною писатели — стилисты и мастера величайшей простоты — Шекспир, Гёте, Пушкин, Байрон… Разумеется, если художник хочет приобрести дешевую популярность, он должен идти на уступки вкусам потребителя.
Такие уступки я нахожу у многих; например, я вижу их у Чайковского. А вот у Баха, у Бетховена никаких этих уступок не найти, они им не нужны, потому что они были гиганты в искусстве. Их нет и у Шекспира или у великих мастеров Возрождения, потому что они обладали настоящим высоким стилем.
Другое дело — мы. Нам надо постоянно и зорко следить за своими ошибками, и прежде всего за ошибками в сторону снижения качественности живописи, в сторону натурализма. Надо постоянно выправлять эти ошибки, ставить себя на место… Я иной раз просто кляну себя, что, поддавшись влиянию природы, утрачиваю власть над собой и пишу так вот, как было в Италии. Итальянские мои вещи идут под уклон. И так почти всегда у меня бывает, когда я чересчур влюбляюсь в природу. Пусть это дает художнику признание, известность, роднит со зрителем — все это очень нужно, просто необходимо даже,— но этого нельзя покупать слишком дорогой ценой, если любишь искусство. Ведь это значит, в конце концов, искажать красоту природы, подменять в ней вечное преходящим, давать зрителю вываренную пищу, как больному. При всей темпераментности во мне живет большая внутренняя уравновешенность, и потому я хочу кипеть только в момент восприятия, но непременно леденеть в процессе творческого воплощения… Оттого-то и люблю я до сих пор свою довоенную живопись времен напряженных исканий. Я отлично знаю, конечно, что эти вещи несовершенны, потому что в них не вылились все мои желания, вся моя воля как художника. А к итальянским вещам 1924 года я сравнительно холоден, потому что в них совсем нет моей воли.
Я вывез из Парижа [в 1925 году.] несколько пугающее меня наблюдение. Я заметил, что живопись некоторых французских мастеров как-то снизилась после 1908 года, приспособляясь к вкусам потребителя. Но французские мастера сумели и снижаясь сохранить стилистические качества своей живописи, а я совершенно утратил их в Италии. Пример французов показывал, что эти интересы могут быть соблюдены и без серьезной утраты стилистических особенностей живописи. Этого я не умел тогда, а потому и не было иного выхода, кроме возврата к аналитической живописи, к работе с тем же холодным сознанием, с каким хирург совершает операцию, беспощадно отбрасывая все „занимательное”, лишнее, которым нередко увлекаются живописцы, да иной раз и сам я.
В первый приезд в Новгород [в 1925 году.] со мной повторилась, в сущности, итальянская история. Природа и здесь захватила чуть не до потери того особого сознания, которое совершенно необходимо при работе. Я почти не знал нашей страны, мало интересовался ею, и тем сильнее она захватывала теперь меня какой-то особой теплотой, своеобразной, чисто русской красотой. Этот „захват” и отразился, разумеется, в живописи. Покойный Луначарский очень верно написал, что мои новгородские „здания” — настоящие живые существа”. Только это звучало для меня совсем не похвалой, а, скорее, порицанием моей податливости, упреком за отход с позиций настоящей живописи. Но устоять не было сил. При всей своей стилизации и условности церковные новгородские фрески ошеломляли своей жизненностью, сохранностью в них местного колорита. Повторялось то, что было в Сиене. Выходишь к новгородской церкви на базар какой-нибудь и видишь кругом тех же „святителей”, тот же склад лиц, подчас те же выражения… Это так захватывало, что я большой бытовой холст написал тогда „Новгородцы”. В Новгороде на Буяновой улице был старорусский трактир, в нем и писал я „Новгородцев” в часы, когда трактир был заперт. И не удержался — сильно перегрузил холст, потому что живописная прелесть сюжета навалилась на меня и затмила художническое сознание… Только к концу жизни в Новгороде стало немного проясняться это сознание, но пора было думать об отъезде. Однако я твердо решил тогда же снова ехать сюда на следующее лето…
Много говорили об этом портрете („Портрет Н. П. Кончаловской, дочери художника” 1925 года. — К. Ф.), даже Наташу Ростову из „Войны и мира” вспоминали почему-то, а я, когда писал, одним был поглощен: как можно вернее передать блеск шелка, а ни о чем другом и не думал.. . В жизни художника бывают моменты, когда кажется, что нашел уже что-то новое, а как примешься за работу, видишь, что не найдено ровно ничего. Но случается и наоборот: работаешь в твердой уверенности, что только пытаешься решить далекую еще задачу, а на самом деле выходит вполне законченная вещь… Мало и плохо мы знаем пути, по которым идет художественное творчество.
В „Возвращении с. ярмарки” (1926 года. — К. Ф.) я задумал насытить движением все: и небо с бегущими облаками, и перерезанную парусниками гладь озера, и бегущих лошадей, и движение телеги. Так хотелось верно передать динамику, что я сам бегал рядом с мчащейся телегой, чтобы уловить, как располагаются во время бега лошадиные ноги. Этюд даже особый делал для оглобли, чтобы вернее схватить ее линию, хоть у меня и хорошая художественная память. Сюжет так захватывал, что и тут я не удержался, как в „Новгородцах”, наделал ошибок. Погнался, например, за изображением пыли у колес, а это совсем ненужный натурализм: просто надо было так колеса взять в самом существе их движения, чтобы зритель видел, как они пылят. Но все это я забыл во время работы. Лицами тоже чересчур увлекся, и телегой, и сбруей. А в итоге не вышло того, что хотел сделать, совсем отбился от фрескового стиля.
У меня, понятно, не могло быть решительно никаких намерений „прославлять” монашество [„В Юрьевском соборе" 1926 года.], в чем меня упрекали. Меня просто сильно заинтересовала в данном случае давно уже наблюдаемая мною человеческая „двуликость”, величайшая перемена, какую производит подчас во всем облике человека выполняемое им дело. Это заинтересовало меня еще в „Скрипаче” 1918 года, но там я дал только преображенного музыкой Ромашкова, а вторую часть задачи — изображение Ромашкова вне музыки — выполнил вместо меня Коненков в своей скульптуре. Теперь, увлеченный живописностью обстановки, я решил показать оба наблюдаемых мною аспекта одного человека и, что было особенно заманчиво, потому, что оба они облекались в различные и очень интересные для живописи формы, требовали совершенно различных подходов, особой гибкости.
Пейзаж, как и все, что я пишу, начинается у меня с зарисовки, иногда даже с нескольких. Когда я вижу интересующий меня кусок природы, я вижу уже и всю вещь, вижу и чувствую, как надо „устроить” пейзаж. Просто брать то, что видишь, действовать, как фотограф, я не мог никогда: без построения нет искусства, а есть один голый натурализм, который я считаю заклятым врагом искусства, самой заразительной его болезнью. В первичное восприятие природы неизбежно входят и мои соображения в том живописном впечатлении, которое должен давать настоящий пейзаж. В этот именно момент и начинается процесс преодолевания действительности, осознания всего случайного, мешающего, происходит та концентрация видимого, которая и создает основу художественного произведения. Одновременно выясняются основные сочетания тонов, определяются ведущая нота колорита и сопровождающие ее мелодии. Весь этот зрительно-мозговой процесс и отражается в рисунке, хоть иногда и не сразу, а после нескольких попыток. Это — первый этап работы, всегда имеющий у меня колоссальное значение. Рисунок должен давать самый яркий, самый сильный образ, который очень выручает при дальнейшей работе. Случается, заработаешься на натуре, перегрузишь холст, и приходится возвращаться к первому впечатлению, к тому именно, что дано было в рисунке.
Второй этап работы происходит уже не на натуре, а в мастерской. Я беру подрамок с холстом, который чаще всего имеет некоторые запасы в длину и ширину, потому что в рисунке невероятно трудно определить истинные, необходимые границы композиции, а я их считаю делом первейшей важности. Иной раз мне приходится, ради композиции, подшивать даже холст, а выпускаю запасы я очень часто. На этот холст я и переношу с рисунка весь контур. Обычно я не пользуюсь освещенным традицией приемом графления эскиза и холста на квадраты, а переношу контуры на глаз. Поэтому-то мне и нужны почти всегда известные запасы у набитого на подрамок холста, чтобы легко было, в случае надобности композиционного порядка, увеличить размеры холста. При переносе контуров на холст у меня почти не бывает отступлений от рисунка, разве только при увеличении окажутся какие-нибудь композиционные недосмотры.
После этого я прокладываю холст красками по зрительному представлению, на основе определенных еще в рисунке ведущих тонов. Эта прокладка тоже очень важный момент. Всякая вещь должна быть, по-моему, художественно законченной в основном с момента первой промазки холста. Живопись во всякий момент должна давать вещь, чтобы и вопросы не ставились: „кончена”, „не кончена”. Это дается так трудно, что достигается далеко не всегда, но надо работать так, как Иванов в своих этюдах. У него была какая-то совершенно невероятная сноровка: только промажет пейзаж, а он кончен уже. Произведение у него как-то сразу рождалось, при первом „нашлепке”, первом прикосновении к холсту. Правда, потом он очень детально заканчивал, но это уж от его эпохи шло, она требовала законченности. Ну а если бы он не заканчивал, так был бы совсем как художник сегодняшнего дня.
Когда готов проложенный красками холст, наступает третий, решающий этап: путешествие с холстом на натуру, работа в самой природе. При этой работе редко случаются какие-нибудь серьезные переделки. Приходится, конечно, заполнять пропуски, но первая промазка холста почти всегда оказывается в основном верной, потому что отправляется она от волевого восприятия природы, диктующего и весь порядок цветовых и объемных отношений. Бывают, разумеется, такие случаи, что я и тут „объедаюсь” природой, как в Италии или Новгороде, но это такие нарушения „правил”, с которыми всегда должен бороться всякий живописец. Работа на натуре идет у меня различно: иногда приходится возвращаться на одно место по нескольку раз, но бывает и так, что успеваешь все сделать за несколько часов даже при сравнительно крупном холсте… Вот типовая „творческая” история моих пейзажей, но в деталях есть, конечно, свои варианты.
Вся жизнь художника должна быть непрерывной цепью наблюдений и впечатлений. Он всегда должен оглядываться по сторонам, без конца смотреть все новое и новое. У старых мастеров надо нам учиться этому умению видеть. Тициан, например, подчас в совершенных пустяках с обычной житейской точки зрения, в каких-нибудь полосатых подушках, открывал просто чудеса какие-то в своей живописи… Смотреть, смотреть надо на все живое и настоящее, высматривать героику и пафос в самом обыденном. Смотреть и учиться можно всюду, даже когда едешь в трамвае. Но все дело в том, как смотреть. Можно смотреть так, что один только Владимир Маковский выйдет, а можно и так смотреть, что увидишь лица Беноццо Гоццоли, а то так и эллинский какой-то венец формы… Ведь греки и не думали природу подчищать да прихорашивать, а просто умели ее видеть отлично. А если начнешь, не разглядев как следует, природу украшать, подчищать, того и гляди съедешь на слащавого и склизкого Канову какого-нибудь. Если бы я раньше знал то, что сейчас знаю в живописи, так всю жизнь был бы настороже, все свои клапаны для восприятия держал бы настежь открытыми. Такое вот настроение надо воспитывать в себе с юных лет. Эта общая у нас ошибка: откладываем все, успеем, разглядим, напишем потом, позднее. А надо, чтобы художник готов был работать всякую минуту. Тогда-то и начнется обогащение, начнется подлинное искусство. ..
Мы всю Военно-Грузинскую дорогу [речь идет о поездке на Кавказ в 1927 году] ехали от Владикавказа на лошадях. И уже от Казбека я почувствовал себя в какой-то антично-патриархальной стране, в каком-то совершенно новом, страшно интересном мире. Много помог мне в разгадывании Кавказа Пушкин, его кавказские поэтические образы и определения. Хотелось и в живописи подойти к пушкинской полноте, простоте и музыкальности.
„Ковка буйвола” [1927 года.]— это итог моим кавказским впечатлениям. Здесь уж вы не найдете ничего пушкинского, так сказать, навеянного. Помню, долго я ходил, смотрел по кузницам, как куют буйволов, какие устраиваются станки для ковки. Подковать буйвола — дело очень нелегкое и опасное, не хуже боя быков; если буйвол разорвет свои путы, кузнецам надо разбегаться, точь-в-точь как разбегаются при бое быков. Делал я много эскизов и карандашом и акварелью, а самую композицию дала натура, тут выдумывать было нечего. Писалось нелегко, потому что необходимо было уходить от бытового жанра, иначе непременно бы этнографией запахло, фотоснимком туриста, а этого я всегда очень боюсь в искусстве.
Это [обнаженное тело.]— совершенно неисчерпаемая для меня тема. Всюду я наблюдал и наблюдаю, как купаются люди. Иной раз какое-то прямо греческое видение увидишь, будто нимфы и Актеон… Люблю и купанье лошадей, на войне еще вглядывался, как купают лошадей наши артиллеристы, и на Волхове, и на Кавказе, где коней прямо в воду кладут. Страшно интересно… Особенно привлекали меня купающие лошадей кавалеристы: у них лица всегда бронзовые, а тело белое-белое, и в этом есть своя прелесть: деловые, значит, люди, некогда им загорать, бездельничать на солнце.
Написать кавалерийское купанье [„Купанье конницы" 1928 года.] я задумал в 1925 году, когда был в Париже, тогда же сделал и первый эскиз. Потом, когда Реввоенсовет стал заказывать художникам картины к десятилетию Красной Армии, мне предложили написать тачанки. Я отказался от тачанок, но сказал, что у меня есть собственная военная тема и я буду писать ее все равно, подойдет она или нет. Но раз вещь может пригодиться для выставки, я буду работать над ней увереннее, и просил, чтобы мне дали пропуск для работы в кавалерийские части. По получении пропуска работа прямо закипела: десятки раз раздевал в казармах кавалеристов — искал нужные мне типы людей, лошадей заставлял выводить — тоже модели искал. Просил даже для зарисовок подымать коней на дыбы. Ходил в Музей изящных искусств, всматривался в слепки с парфенонских фризов и одновременно делал зарисовки с физкультурников в физкультурном зале Вхутеина, изучал волейбольщиков. Зимой 1927 года начал компоновать углем на холсте в 12 квадратных метров, и оказалось тесно — сюжет требовал большей площади, Я решил все-таки сохранить этот холст как эскиз. Потом, когда поехал на Кавказ, все время думал об этой вещи. Пишешь, бывало, воду, а сам думаешь: пригодится для „Купанья”.
Надо было бы развернуть композицию вправо [в картине „На Ильмень-озере".— К. Ф.], тогда вошли бы две девушки-рыбачки, которых видел в натуре. У них был такой же стремительный ритм в движениях, как у каких-нибудь архангелов на древних фресках. Весь холст тогда приобрел бы иной смысл, иное значение… Да, композиция — это все, это основа, душа всякого художественного произведения, потому что только она и может охватить и привести к единству все его слагаемые части. Как жаль, что наша художественная молодежь так небрежно относится иной раз именно к вопросам композиции и тем губит свои работы… Я считаю, что идея композиции всегда заключена в самой действительности. Когда эту созданную природой композицию пропускаешь через себя, тогда-то и видишь, что природная композиция оказывается страшно верной, что она выше всех перестановок, какие может изобрести человек. Думать, что можно скомпоновать лучше природы,— это ошибка; надо просто окончательно продумать то, что видишь, чтобы понять, как все устроено так великолепно. У меня был раз такой случай. Понимающий в искусстве человек смотрел одну мою вещь и говорит: „Сознайтесь, вы тут в композиции переставили кое-что”, а на холсте все было дано точь-в-точь как в натуре…
Природа часто прямо заставляет возвращаться к тому, что сама дает в композиции, отшвыривает неудачные наши композиционные потуги. Надо только все время постоянно и внимательно разбираться в том, что видишь… Конечно, разбирая природу, можно подчас находить в ней очень верные, но, по существу, препротивные вещи. Какая любовь к вещам была у Сурикова, как видел он их и с какой нежностью писал! Константин Маковский писал, например, те же самые вещи, а выходила просто гадость, бутафория. Все дело в самом художнике, в том, как он воспринимает природу, потому что ошибки в художественном восприятии уже ничем нельзя исправить, никакой искусной живописью: вещь все равно будет звучать фальшиво, и чуткое ухо зрителя всегда услышит эту фальшь.
Я очень люблю своего „Геркулеса” [„Геркулес и Омфала" 1928 года.] по многим причинам. В нем есть, по-моему, признаки настоящего стиля: большая простота замысла и выполнения, воздержанность в колорите, отсутствие слащавости, в которую можно впасть при подобном сюжете… Кстати, я показывал „Геркулеса” той же самой молочнице, которая давала свою оценку „Купанью красной конницы”. Интересно было, как она поймет столь чуждый сюжет. Конечно, я рассказал ей содержание античного мифа, а в ответ услыхал русскую пословицу: „Да, уж коли коготок увяз — всей птичке пропасть”. Грозный силач Геркулес неожиданно превратился в „птичку”, но смысл-то мифа, его содержание все-таки дошли до зрительницы, и это было мне очень приятно…
Цветок нельзя писать „так себе”, простыми мазочками, его надо изучить и так же глубоко, как и все другое. Цветы — великие учителя художников: для того чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. В цветах есть все, что существует в природе, только в более утонченных и сложных формах, и в каждом цветке, а особенно в сирени или букете полевых цветов, надо разбираться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику построения, выведешь законы из сочетаний, кажущихся случайными… Я пишу их, как музыкант играет гаммы. Поработаешь часика два, так ум за разум начинает заходить — вместо цветов являются уж звуки какие-то… Это грандиознейшее упражнение для каждого живописца.
В картине „Игра в хоккей” [1929 года.] я совсем отошел от сезанновского метода последовательного закрашивания планов, потому что он был окончательно изжит теперь. Им и надо было овладеть только для того, чтобы потом отбросить его, как школьный урок, во имя непосредственной простоты подхода к природе. Такая непосредственность может быть очень опасной, если у художника нет знания закрашивания планов, но раз оно есть уже, можно смело довериться непосредственности, не думая об анализе, потому что этот анализ происходит теперь бессознательно, в самый момент восприятия природы. Весь „Хоккей” пошел и вылился у меня сразу от цвета льда. Иногда бывает так, что ощущаешь явление природы как нечто примитивное, грубое даже. Лед на катке был воспринят мною как бутылочное стекло, но в этой мнимой примитивности восприятия как раз и оказалась большая художественная тонкость, которая создала всю вещь. Как только прописал я на холсте квадрат катка бутылочного цвета, все определилось сразу и вещь была, в сущности, готова. Я на долгом опыте пришел к заключению, что в подлинно художественном произведении все решается первой линией, первым красочным пятном. Иной вопрос, сколько времени надо убить на предварительное изучение, прежде чем будет положено на холст это первое пятно, но в нем, по-моему, вся суть…
За катком в тот год ухаживали не очень усердно: ледяное поле было невелико, и его отделяло от бульвара и окружающих зданий большое снежное поле. В этом была вся красота — здания отодвигались куда-то вдаль, расширялись горизонты, а ледяное зеркало лежало в широкой снеговой раме. Я взял его динамически, слегка по диагонали, потому что это хорошо согласовалось с быстрыми движениями игроков. Писал я эту вещь намеренно очень скупо в смысле деталей, чуть наметил окружающую каток безобразную решетку, дал всего два древесных ствола из целых их десятков. Живопись здесь у меня была очень жидкая: все время боялся, как бы нагрузка краской не загубила свежести впечатления.
Поездки на Кавказ и в Крым я считаю крупнейшими явлениями моей творческой жизни за последние годы. В „Ковке буйвола” я нахожу простоту выражения и достигаю большей образности, чем раньше. В балаклавских и гурзуфских моих работах — те же стремления к простоте и легкости. И в этом мне много помогла акварель. Я работал акварелью и раньше; до сих пор с болью вспоминаю о пропаже чуть не полусотни моих испанских акварелей 1910 года. Брал их с собой в театр, когда писал декорации к „Дон-Жуану”, и, возвращаясь страшно усталый домой, забыл их на извозчике. Так и пропали, все до одной, как в огне сгорели… Но теперь я стал работать акварелью по-иному: прежде всего хотел при ее помощи выяснить для самого себя некоторые вопросы фактуры масляной живописи. Есть такие тонкости, которые можно постигнуть, только пройдя через акварельную технику. Взять хотя бы небо в акварели, эффект просвечивания белой бумаги через краску, лессировочный прием, так сказать. Оказалось, что в живописи маслом имитирующий акварель прием жидкой прокладки небесных тонов по подготовке белилами открывает чрезвычайно любопытные фактурные возможности. И многое другое было найдено через акварель…
Взяв из природы случайное, обратить его в закономерное — таков подлинный закон композиции в живописи. Мы не можем искать композиции, сидя у себя дома и в ярости бегая по комнате, как делал Сезанн, когда ставил свои натюрморты. Мы ушли от такого способа. Нам надо из живой, нетронутой природы выхватить ту нить, которая приводит к подлинной композиции, надо приучать свой глаз при первом же взгляде брать только то, что нужно, из всей груды случайностей. Не раз бывало у меня — смотришь, смотришь на заинтересовавший уголок природы и не находишь, за что в нем зацепиться. А в другой раз в том же самом уголке и распахнется вдруг все, да так широко, так необычайно интересно. Если у художника есть уже такая верная исходная точка, его дело наполовину сделано, если он владеет, конечно, искусством формы. И эти свои намерения, эти волевые стремления совсем не надо прятать от зрителя. Наоборот, надо, чтобы зритель при первом взгляде понял, что художник очень сильно хотел сделать именно то, что он сделал, а не просто изображал случайно увиденное… Как добиваться этого, сказать трудно, но, если художник не умеет компоновать, то есть распределять на холсте формы и краски так, чтобы все было охвачено единым ритмом, стремилось к единой цели, он не покажет зрителю, что именно хотел он сказать в данном случае, каков был его замысел.
В этом живом куске былой ханской жизни (в Бахчисарае.— К. Ф.) все для меня звучало почему-то особенно древней музыкой и поэзией. Совсем не Зарему и Марию „Бахчисарайского фонтана” видел и чувствовал я здесь, а, как это ни странно может показаться, Черномора, Руслана, Ратмира. Современность, врывающаяся в жизнь Бахчисарайского дворца, эти вечерние гулянья пестро одетой татарской толпы в дворцовых садах отодвигали в моем представлении памятник времен крымских Гиреев в какую-то совсем седую древность. Серенькие крымские соколы, чертившие воздух над головой, белые комочки голубей, усыпавшие крыши и карнизы, казались мне чуть ли не видениями древней Киммерии. Но я и минуты, конечно, не думал о какой-либо стилизации в „киммерийском” духе. Наоборот, в живой и совершенно реальной передаче дворцовых железных ворот и гаремных садов хотелось мне выразить те сложные переживания ожившей истории, которые овладевали здесь мною.
Невероятно помог мне один случай [в работе над портретом Пушкина 1932 года.]: в Историческом музее пообещали показать ватное одеяло пушкинской эпохи, а когда я пришел посмотреть его, внезапно познакомили с живой внучкой поэта. Все, чего я не мог высмотреть в гипсовой маске, над чем мучился и болел, сразу появилось предо мною. И, самое главное, я увидел у внучки, как раскрывался рот ее деда, каков был оскал его зубов, потому что внучка оказалась буквально живым портретом деда, была ганнибаловской породы… Я так обрадовался тогда, что совсем потерял голову и принялся, как ребенок, целовать эту милую маленькую старушку. После этого работа пошла настоящим ходом с большим воодушевлением. Гипсовый „Фавн” окончательно стал для меня живым человеческим лицом, и я мог писать своего воображаемого поэта совершенно так же, как пишу любой портрет,— с той же уверенностью, твердостью, ясностью… Долго думал я, как открыть рот Пушкина, показать его изумительную, детски радостную улыбку, о которой говорили все знавшие его при жизни. В конце концов пришлось использовать традицию — заставить поэта подносить к губам гусиное перо. Это, разумеется, очень уж „поэтический” жест, но именно у Пушкина-то он и оказался для меня потом оправданным документально: пушкинисты указали на рассказы современников о том, что у поэта была постоянная привычка грызть перья во время работы, и эти обгрызенные перья в изобилии находились всегда на рабочих столах Пушкина. Один из пушкинистов жалел даже, что я дал своему Пушкину свежее, а не обгрызанное перо.
Работал я Пушкина не торопясь, отставляя холст на целые месяцы, но внутренняя мозговая работа, конечно, не останавливалась во время этих перерывов. Много приходилось думать над обстановкой, в какой жил поэт,— от нее не осталось почти ничего. Мне надо было в самом колорите этой обстановки передать дух эпохи, потому что бытовая обстановка в каждую эпоху имеет свою красочную гамму, как мода. Я остановился на сочетании зеленого, красного и желтого — любимых цветов эпохи Николая.
Я долго вглядывался в него [Домик Петра I в Летнем саду.], обдумывал, сделал рисунок и собирался писать прямо с натуры. Здесь все должно было идти, по моему замыслу, от цвета воды Фонтанки. Но я начал все-таки эту вещь дома, по памяти, как говорится, „в голове донес цвет”. И как только проложил краской свинцовую воду Фонтанки, сделал лодку и наметил отражения, все остальное само собой пошло, краски ложились, как рифмы в стихах… Так же вот со мной было, когда писал „Хоккей”… Засиделся я в тот раз в Ленинграде, снег при мне выпал, и невольно как-то вспомнился Пушкин, особенно когда я в Детском Селе был. Там все дышит именно Пушкиным.
Я, когда работаю, должен постоянно мыть кисти. Другие чуть не одной кистью пишут, а я не умею, мне надо все время мыть кисти. Вот и таскаю с собой кистемойку, да еще и жестянку с жидким лаком. От скипидара краска разжижается, и я окунаю кисть в лак, чтобы он связал краску, сделал ее покрепче.
Я не могу так работать: огляделся, увидал „мотивчик” — и пошла писать. Так можно одни только „нашлепки” делать, простые памятки, упражнения в живописи. Мы идем теперь на место, облюбованное еще с весны. Деревья тогда стояли голые еще, а я уж рисунок сделал, правда, немножко с другой точки зрения. Потом цветы зацвели, сирень, надо было писать их. А когда в первый раз пошел писать, увидел этюд свой с другой точки, она лучше показалась, и начал писать так. Впрочем, и то место, с которого рисунок сделан, все-таки собираюсь написать, если будет время.
Я сейчас увлекся живописью „против солнца”. Интересно ловить, как солнце швыряется серебром по листьям, по траве, по всему. Холодное такое серебро, и сколько в нем оттенков. Такой скользящий свет на листве, Тинторетто страшно любил холодные эти блики. Помните „Сусанну со старцами” в Лувре. Как потрясающе сделано! За ним, понятно, не угнаться никому. Да и неизвестно, как работано: с этюдов или по памяти… По памяти, конечно, можно сделать, да трудно очень угадать, то ли делаешь, что надо. Вот Моне, на что уж „художник часов” был, каждый час изучал в самой природе, а куда ему до Тинторетто… У таких великанов, как он, видно, и память была особая, гигантская. Нам, на самой природе сидя, да глазами ее высверливая, никогда не добиться такой силищи.
Вот я много уж говорил про композицию, взгляните теперь, как я компоную. Там, в глубине этюда, непременно должна идти извилистая линия, темная такая теневая волна. Ее надо выпятить, а ветки и стволы путаются, мешают ясно видеть эту волну. Значит, надо компоновать, вносить поправки. Вот эту ветку чуть выше поднять, эту развернуть в другую сторону, отодвинуть слегка стволы…
Посмотрите, природа-то что вытворяет сегодня! Красного-то сколько появляется в листве, в деревьях. А тут-то синька гуляет по стволам какая — чудо. Ну и натура — поддает жару…
Посмотрите, как я „выразил” бугор: просто успокоил, спрямил первый план, а дальний-то план с бугром от этого и заколыхался весь. Если бы я поднял линию бугра, была бы ошибка. Не всегда угадаешь, как надо поступить. Когда шли сюда, я думал, „стволы надо будет тоньше сделать, улучшится композиция”. Так мне дома казалось, когда на этюд смотрел. А теперь что делаю, на натуре-то. Все стволы наращиваю снизу, утолщаю, потому что тонкими-то они оказываются вверху только. И это сразу помогло общему впечатлению. Значит, я ошибался дома-то, без натуры. А то иначе бывает – ошибаешься на самой натуре. Придешь домой, вглядишься в написанное и начнешь от себя вносить поправки. Потом придешь на место — стало ближе, вернее к натуре… Значит, устал, когда работал: перестал видеть что нужно,— я так это объясняю. Впрочем у меня бывали и другие случаи. Сделал я как-то этюд один акварелью. Потом то же самое место масляными красками написал по натуре. Принес домой, сравнил с акварелью — вижу, там вернее. Исправил масляный этюд по акварели, понес его на натуру — точь-в-точь что нужно. Вот как случается… Конечно, может, это и не так на самом-то деле. Может быть, я под влиянием своей же акварели просто перестал видеть натуру как следует, видел в ней только то, что взял уж в акварели, а не мог рассмотреть ничего другого… Не знаю.
Недавно как-то ехал в Москве в трамвае, видел из окна: девица одна идет замечательная. Надо было на первой же остановке слезать, а я провозился, слез на второй и, конечно, потерял девицу. Никакой красоты в ней не было. Волосы на голове как колтун, а к вискам кудряшки такие лежат, выделанные, словно на античной статуе. Зато посадка головы прямо удивительная. А главное — ноздри: по-особому как-то вырезаны, широкие, дышащие, раздутые… В произведениях великих живописцев бывают такие неумирающие формы, например, как громадный нос у Луврского старичка Гирландайо. Просто простить себе не могу, что пропустил это лицо… Да не пропадет оно у меня, никогда не забуду его, так все в нем было оригинально.
Мне давно уже хочется вернуть на сцену настоящую живопись, так поспешно изгнанную в угоду уже надоевшим и почти изжившим себя так называемым конструкциям, хочется дать декорации чрезвычайно лаконичные, скупые на детали, но добиться при этом такого лаконизма, который может превосходно сочетаться с театральной действительностью, со сценической бутафорией. Надо дать театру такие широко написанные живописные декорации, с которыми сливались бы воедино все костюмы и находящиеся на сцене подлинные предметы, чтобы они „врастали” в живопись. Такие декорации оказались вполне возможными, как показал опыт „Четырех деспотов” [1932 год.]. Обдумывая постановку этой оперы, где действие развивается такими быстрыми темпами, и вспоминая, как расхолаживают всегда зрителя антракты, необходимые для смены сценических конструкций, я решил все декорации построить на чистых переменах, заменив кулисы в некоторых случаях плоскостными изображениями прямо на отогнутых к зрителю частях задника. К вертикальным и горизонтальным плоскостям декораций я добавил наклонные плоскости. Так написана, например, вода в „Деспотах”: в глубине сцены вода написана на вертикальной плоскости задника, которая переходит в наклонную, а ближе к зрителю превращается в горизонтальную плоскость, лежащую прямо на полу сцены. В этой постановке я отказался от эффектов сценического освещения и писал в расчете на обычный белый свет. Много колебаний было с мостом в последней картине. Его, конечно, гораздо проще было бы просто написать, но тогда он пропал бы для игры, оказался бы мертвым местом.
В конце концов мы сделали настоящий мост с решетками из крашеных веревок, и он стал центром сценического действия в финальной сцене карнавала, где я задумал показать ту самую фантастическую Венецию, которую воскрешают произведения Пьетро Лонги. Для первой картины последнего акта я написал, между прочим, „лавку антиквара”— самый большой из моих натюрмортов. Писались эти декорации с большим увлечением, хотелось передать зрителю тот солнечный, праздничный блеск Венеции, которым она так чарует нас. Между прочим, с „Деспотами” был у меня забавный анекдот. Сидим мы раз с женой в театре в одно из первых представлений оперы. За нами сидит какая-то зрительница. Когда поднялся занавес первой картины, зрительница спросила у соседа, чьи декорации. „Кончаловского”. „Ну, оно и видно”,— пренебрежительно отозвалась та. А когда после полной перемены первой картины на сцене появилась солнечная Венеция, зрительница сама уж сказала и совсем другим тоном: „Оно и видно, что писал Кончаловский”…
В „Хозяйке гостиницы” [1932 год.] я поставил себе задачей вынести действие из надоевших „павильонов”, из комнат, прямо на улицу. Итальянский уклад жизни вполне позволяет это. Декорацию первого акта я строил как двор гостиницы, помещающейся в каком-то старом здании монастыря, частично уже обратившемся в развалины. Это дало возможность артистам обыграть сцену в самых разнообразных местах: не только на полу, но и на лестницах, в окнах, в галереях второго этажа. Такое распределение сценического действия казалось мне сильнее передающим и дух эпохи и самый характер флорентийского быта. Комнату Мирандолины я также вывел на воздух: заменил ее монастырской лоджией с видом на город и знаменитый флорентийский собор. Все это нарушало, конечно, традиции, но зато открывало большой простор для артистов, уничтожало разрыв между декорацией, как мертвым фоном, и живой игрой исполнителей… Опыт этих постановок очень ясно показал мне, что живописная декорация на сцене не только вполне может отвечать новым требованиям, предъявляемым к ней театром, но и навсегда останется в некоторых случаях незаменимым средством воздействия на зрителя.
Понятие о картине — это не какая-нибудь Пифагорова теорема, оно постоянно изменяется, в каждую эпоху определяется различно. Для меня неоспоримо только одно: картина может быть создана лишь в эпохи полноты развития художественной жизни и определенной устойчивости понятий в искусстве, в эпохи полного владения тем художественным методом, который дает живописи полноценную качественность и вместе с тем способен охватывать и отражать самый дух своей эпохи.
|
|
PIOTR KONCHALOVSKI A PROPOS DE L’OUVRAGE ARTISTIQUE
Les pensees du peintre ont ete enregistrees dans les annees 1930. par V.A. Nikolski et publiees dans le livre de V.A. Nikolski «Piotr Petrovich Konchalovski», М., «Vsekokhudojnik», 1936:
“Les ?uvres de Van Gogh m’ont ouvert les yeux sur ma peinture. J’ai clairement ressenti que je ne pietinais plus sur place comme avant, j’allais de l’avant et je savais quelle devait etre la relation entre un peintre et la nature. Il ne faut ni la copier, ni tenter de lui ressembler, mais y chercher avec perseverance ce qu’il y a de caracteriel, sans meme penser a changer le visible, si c’est ce que demande mon dessein artistique, mon emotion volontaire. Van Gogh m’a appris, comme il le disait lui-meme a « faire ce que tu fais, en t’offrant a la nature », et c’etait une grande joie.
Il me semble que Van Gogh, Cezanne ne se contredisent pas l’un l’autre. Leur ouvrage se precipite a travers un seul et meme cours, ils sont proches face a la nature, car les deux sont les heritiers et le prolongement du grand Monet. En realite, si on analyse comme il faut mes palmiers de 1908 a Saint-Maxime, on y retrouvera pres des elements rappelant incontestablement Van Gogh des « bouts » de Cezanne, car c’est comme ca que j’ai vu ces bouts dans la nature et c’est comme ca que je devais les transmettre. Vous pourrez trouver l’influence de deux de ces maitres par exemple chez Matisse : les elements decoratifs proviennent de Van Gogh, alors que la generalisation, la synthese viennent de Cezanne. Par ailleurs, on peut trouver l’influence de Van Gogh chez Picasso, chez Derenne et bien d’autres peintres. La methode de Cezanne pour comprendre la nature m’est chere. Je l’ai longtemps suivi car c’est tout particulierement les methodes de Cezanne qui donnaient la possibilite de voir la nature sous un angle nouveau, ce a quoi je veux etre fidele…
Durant ces annees j’avais instinctivement senti qu’il n’y aura pas de redemption sans de nouvelles methodes, il sera impossible de trouver le chemin vers l’art vrai. C’est pour cette raison que je me suis accroche a Cezanne, comme un noye attraperait un brin de paille.
Jusqu’a present (jusqu’a mon voyage en Espagne en 1910) je connaissais un Velasquez qui etait faux, italianise, mais dans « Les Fileuses » et d’autres objets du Prado j’ai decouvert un peintre espagnol authentique : non seulement dans les coloris, comme dans le portrait de l’Hermitage du pape Innocent, mais froid, sombre. Quelles magnifiques teintes de bleu ciel, de gris-souris, de noir utilisent les maitres espagnols! Toute l’Espagne a soudain revetu a mes yeux les couleurs de ces vieux peintres. Elles se sont emparees de moi avec une telle force, que lorsque nous nous sommes retrouves a Escurial je suis passe a cote de splendides tapisseries si colorees de Goya sans meme prendre conscience de leur beaute… Ah si seulement je pouvais les revoir, si seulement je pouvais me retrouver maintenant en Espagne !
Au debut j’ai peint «Le combat des taureaux» (1910) avec beaucoup de realisme. Surikov la trouvait extraordinaire par la vitalite qu’elle transmettait, alors que moi je ne l’aimais pas. J’avais envie de voir un taureau plus caracteriel, pas tel que tout le monde le voit, mais primitif, ressemblant a un jouet. J’ai toujours aime l’art populaire. Rappelez-vous ces createurs de jouets de Troitsk, qui ont passe leur vie a ciseler le bois pour en faire un ours avec un moujik et d’autres objets. Avec quelle simplicite et quelle force transmettaient-ils l’essence meme de l’animal et de l’homme, en utilisant pour cela les outils les plus elementaires, en ramenant tout a quelques deux ou trois details caracteristiques. C’est precisement comme ca, «a la moujik», «a la jouet» que j’avais envie de representer mon taureau durant son combat. Je voulais qu’il ait l’air tantot d’un jouet, tantot du «diable» en personne, comme il etait represente au Moyen age dans les narthex des eglises. Et c’est ainsi que je l’ai repeint. Je me souviens que Surikov pensait que j’avais tort, et se rememorait avec tristesse le taureau precedent, alors que je preferais de loin le nouveau.
La nature de la France et de l’Italie est toujours chargee d’air, de transparence, les couleurs y sont souvent presentes la-bas comme dans un brouillard. En Espagne, en revanche, comme je l’ai deja dit, c’est tout le contraire – les couleurs sont extremement simplifiees, le noir et le blanc predominent, comme s’ils saupoudraient de leurs cendres toutes les autres couleurs. Pour moi l’Espagne est un poeme en noir et blanc, c’est comme cela que je l’ai ressentie et comme cela que je me devais de la representer. Durant tout le temps ou je vivais en Espagne, j’etais habite par l’idee de prendre possession de cet art de la couleur synthetique simplifiee. C’est cette meme question que je tentais de resoudre dans le portrait de ma femme et de mes enfants de 1911 (dans « Le portrait de famille »). Deux couleurs y predominent, a l’espagnole : le noir et le blanc. Et independamment de leur presence vigoureuse dans le portrait, le rouge et le vert n’ont qu’un role de soumission, leur tache etant de souligner la resonance des deux notes principales du portrait. Et la peinture chinoise introduite dans le fond, sert d’accompagnement a ces tons primitifs. La encore on retrouve le noir, le gris et les notes repetitives pour le rouge – le rose pour les branchies du poisson et le vert – pour la vague turquoise. Si on regarde de plus pres, ce portrait comporte une certaine sensation de materialisation des objets et les rudiments du constructivisme.
A l’epoque (en 1910 — К. F.) nous etions unis dans ce besoin d’aller a l’assaut de la vieille peinture. Nous avions envie de peinture se rapprochant par le style des fresquistes du Moyen age, nous pensions a Giotto, a Castagno, a Orcagna et aux autres maitres. C’etait pour nous une sorte de periode «de tempete et de ruee», comme lors de l’apparition des romantiques. Nous pensions qu’un theme aborde de maniere aiguisee ne pourra que devenir poignant, et ce quel qu’il soit en realite. Il nous fallait travailler pour arriver a aiguiser la peinture. Mais nous savions egalement que le sujet le plus aiguise etait reduit a neant si la peinture etait mauvaise. Nous pensions alors qu’il nous fallait tout d’abord prendre possession du langage de la peinture et que tout sera magnifique – quoique le peintre ne peigne, tout sera bien. Dans un vrai chef-d’?uvre de peinture le «quoi» et le «comment» sont bien evidemment indissociablement entrelaces. La conception, l’idee de l’objet doivent souffler au peintre la maniere doit il doit les realiser.
En fondant le «Valet de Carreau» notre groupe ne pensait pas du tout a «epater» le bourgeois, comme on le dirait aujourd’hui. A l’epoque nous ne pensions qu’a la peinture et a la resolution de nos questions artistiques. « L’Ideologie » est venue plus tard, lorsque dans les annees 1912—1913, apres la scission, «Valet de Carreau» a commence a organiser des debats dans le Musee polytechnique et que nous avons ete rejoints par les futuristes. Le fait etait que lors de la creation meme du «Valet de Carreau» nous n’avions pas tous la meme approche de l’art. Les talents artistiques brillants de Larionov et de Goncharova en faisaient bien evidemment nos allies, mais la difference de notre approche a l’art etait marquante. Mashkov, Kuprine, Lentulov et moi-meme avions une passion juvenile et non calculee de la peinture, nous n’etions pas du tout interesses par l’aspect materiel qu’elle pouvait representer. Alors que le groupe de Larionov revait deja a l’epoque de gloire et de reconnaissance, avait soif de battage et de scandale. C’est a cause de cela que la scission entre nous s’est produite aussi vite :Larionov, Goncharova et les autres ont quitte le «Valet de carreau» pour fonder une union plus gauchiste – «La queue d’ane».
Il est souvent question de l’aspect revolutionnaire du «Valet de carreau», mais je pense que ce mot embrouille tout, uniquement parce qu’a notre epoque il porte un sens tout particulierement politique. Alors qu’a l’epoque nous ne pensions aucunement a la revolution dans le sens politique du terme. Nous pensions faire la revolution uniquement dans la peinture en elle-meme. Nous avions, bien sur, beaucoup de fougue, de jeunesse, nous allions vers les extremes, mais tout cela est maintenant dans le passe, et ce qui avait reellement de la valeur et qui etait necessaire – la bonne peinture – est reste. On nous a reproche l’absence de thematique, mais personne n’a remis en doute la qualite de notre peinture. Et c’est le plus important, car sans une qualite excellente il ne peut y avoir de vraie peinture, et certainement pas de peinture thematique. C’est ainsi que je vois les choses” |
|
|
|
|
|
|